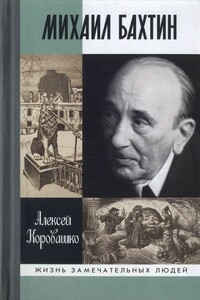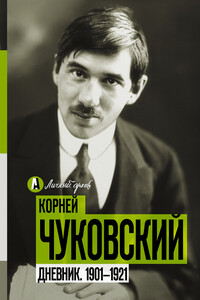Я здесь | страница 72
Силу этого обстоятельства я понял значительно позже, сам побывав в моравском городишке Славков. А это и был раньше Аустерлиц. Сверху, от так называемой Могилы Миру, то есть памятника, высившегося в обзорном месте у деревушки Праце (я моментально перевел название на русский как “село Работно” да так и запомнил), виднелись склоны холмов с полями угодий, рощицы в ложбинах, – всё как на ладони, хоть опять нагоняй туда конницу, ощетинивай штыками редуты, наполняй воздух облачками разрывов, поливай все это кровушкой. Стела Могилы с крестообразным завершением и четырьмя опорными фигурами как раз и отдавала военные почести на трех языках из четырех – французском, немецком и чешском – погибшим солдатам: своим, союзным и вражеским. А на русском языке – только своим. Вот вам и рыцарство!
Тогда у Кирилла собралось сразу три литературных компании: наша с Рейном и Найманом, ереминско-виноградовская и “взрослая”, собственно косцинская. Это был кругловато-заурядной внешности Валентин Пикуль, которому оставалось еще года два до того, как он станет самым читаемым романистом на Руси, да фантаст Север Гансовский с выражением задумчивой обиды на полнеющем, но еще тонком лице – это он впоследствии “сдаст” хлебосольного друга в КГБ. Поэты читали стихи, прозаикам оставалось лишь поджимать губы.
– Надо писать, как Кай Валерий Катулл, – вдруг заявил Пикуль.
– Как Валерий Тур? Москвич?
– Нет, не москвич, а римлянин. И даже весьма древний. – И он четко и с удовольствием прочитал наизусть стихотворение “К Лесбии”.
– У теперешнего народа кишка тонка так писать! – заключил Косцинский.
Во время венгерских событий его квартира напоминала штаб – если не сопротивления, то интенсивного сочувствия: звучали радиоголоса, на столе были разложены карты Европы. Кирилл был язвителен и азартен, видимо, и тут сказывался эффект былого присутствия: он видел не карту, а местность. Разворот Дуная, мост, подъем на Пешт, раскинувшаяся внизу Буда – и “наши”, то есть хрущевские, танки. В ту пору я к нему заходил, чтобы узнать, “что слышно из Будапешта”, либо же самому сообщить что-нибудь вроде: “Имре Надь арестован, конвоирован в Болгарию”.
Когда я все-таки повел к Косцинскому Генриха, перед самой дверью меня осенило: я, может быть, веду к нему стукача. Но дверь уже открывалась. Что ж теперь делать? На полках кричаще выделялись белогвардейские дневники и воспоминания, это была гордость его коллекции, бледным шрифтом на папиросной бумаге пучился явный самиздат, всюду пестрели корешки нелегальщины.