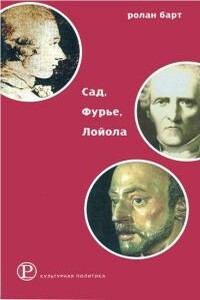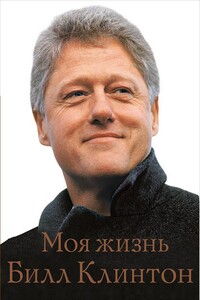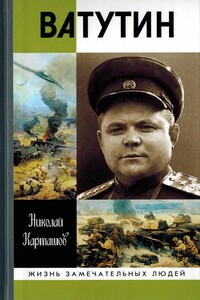Ролан Барт о Ролане Барте | страница 32
слово предстает палимпсестом, и тогда мне кажется, что я мыслю непосредственно языком, то есть просто пишу (имеется в виду письмо как практика, а не как ценность).
Насилие, очевидность, естественность
Он всегда пребывал в мрачном убеждении, что настоящее насилие — это насилие само-собой-разумеющегося: все очевидное — насильственно, пусть даже это насилие и предстает в мягком, либеральнодемократическом виде; не столь насильственно парадоксальное, не подпадающее под власть смысла, пусть даже оно и навязывается произвольно; тиран, провозглашающий несуразные законы, в конечном счете окажется меньшим насильником, чем масса, которая всего лишь высказывает само собой разумеющееся: по сути, «естественное» — это худшее из оскорблений.
Исключенность
Утопия (в духе Фурье): мир, где всюду одни сплошные отличия, так что отличаться друг от друга не означает больше друг друга исключать.
Проходя мимо церкви Сен-Сюльпис и видя, как из нее выходят новобрачные, он испытывает чувство исключенности. Отчего же так беспокоит его это в высшей степени дурацкое зрелище - религиозная церемония мелкобуржуазного брака (то была не великосветская свадьба)? Просто он случайно попал в тот редкий момент, когда все символическое объединяется вместе и заставляет тело уступить. На него разом нахлынули все те социальные разделы, которым он подвергается; его словно ударила самая сущность исключенности — плотное и жесткое ядро. Ведь к тем простым видам исключенности, которые изображались этим эпизодом, присоединялся еще один, последний фактор удаления — фактор его языка: он не мог признать свое смущение с помощью собственно кода смущения, не мог выразить его; он чувствовал себя более чем исключенным — отделенным, которого все время ставят на его место свидетеля, а дискурс свидетеля, как известно, может подчиняться только кодам отделенности — либо повествовательному, либо объяснительному, либо критическому, либо ироническому, но ни в коем случае не лирическому, однородному с тем пафосом, вне которого ему приходится искать себе место.
Селина и Флора
Письмо подвергает меня суровой исключенности — не только потому, что отторгает от обычного («народного») языка, но еще более существенным образом потому, что не позволяет «выражать себя»: кого вообще оно может выражать? Обнажая рассредоточен-ность и атопию субъекта, рассеивая иллюзии воображаемого, оно делает невозможной всякую лирику (как изъяснение некоторого душевного «волнения»). Письмо — это сухое, аскетическое наслаждение, без всяких излияний.