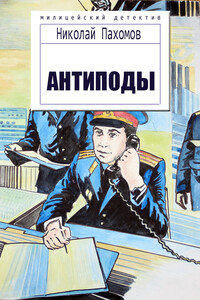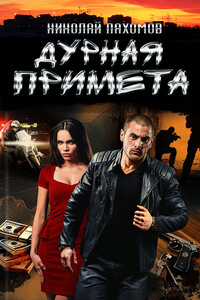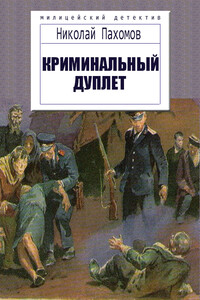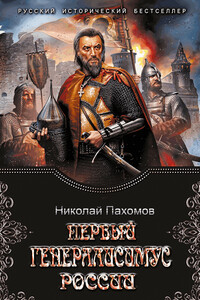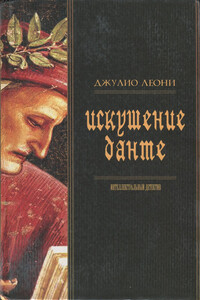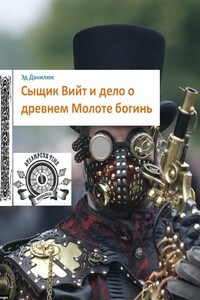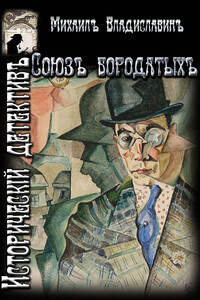Шемячичъ | страница 14
После крещения, когда старые боги были ниспровергнуты и воссияла истинная вера в единого Вседержителя и сына его Иисуса, в названии града случилось изменение. Из Ярильска стал он Рыльском. Да так и прижилось: Рыльск да Рыльск.
С тех пор многих князей русских — и великих, и удельных повидал град. Многих встречал хлебом-солью, но и от ворот поворот умел дать. Видел он дружины Юрия Владимировича Долгорукого и Святослава Олеговича Северского, Изяслава Мстиславича Киевского и Изяслава Давыдовича Черниговского. А в лето 6688 от сотворения мира1 стал он удельным княжим градом, приняв в свое лоно первого волостелина — юного Святослава Олеговича, сына покойного Олега Святославича Северского. О том его дядья-стрыи позаботились: Игорь да Всеволод Святославичи.
В несчастные для Руси годы Батыева нашествия град Рыльск, в отличие от Курска, уцелел. Но князь рыльский Мстислав Святославич, храбро сражавшийся за Чернигов, в лето 67492 пал от басурман где-то в Угорской земле. О том русские летописи кратко сообщают, рассказывая о бесконечных бедствиях Русской земли. Они же, летописи, и о последнем властелине Рыльского княжества в пору монгольского ига — Олеге Рыльском и Воргольском, печалясь, рекут. Ибо извели зловредные и злопамятные ордынские ханы вместе со златолюбцем бессерменином и баскаком Ахматом Хивинцем Олега и его сродственника Святослава Липовечского. Извели с детьми и женами, с боярами и дворянами. Под корень вырубили потомство Ольговичей курских и северских.
Не повезло и последнему князю — Федору Патрикиевичу, потомку литовского князя Гедимина. Пал он на берегах Ворсклы-реки в лето 69072 от татар ордынского хана Темир-Кутлуя. Подбил тогда изгнанный из Орды хан Тохтамыш литовских да русских князей во главе с Витовтом на битву с ордынцами, маня златом да посулами о вечном союзе. Но едва началось сражение, как Тохтамыш, словно мышь, сбежал. А литовские и русские князья, в том числе герои битвы на поле Куликовом — Андрей Ольгердович Полоцкий да Дмитрий Ольгердович Брянский — и их сродственник Федор Патрикиевич Рыльский пали в сече.
Не раз и не два слышал эти сказы да бывальщины юный князь Василий Иванович. Крепко запомнил. Пригодятся или не пригодятся в жизни эти знания, неизвестно, но и не помешают. Такой груз, как не раз говаривал батюшка, рамен не тянет и есть не просит.
За темной лентой Сейма — так на польский манер ныне кличут Семь — на десять, а то и все двадцать верст все луга, луга, луга. На ближних — на нежно-зеленом ковре из трав — можно рассмотреть бушующие жизненными соками и листвой островки лозняка, верб и ив. А еще — голубые зеркала озер либо стариц. Озер после паводковых вод среди лугов бесчисленное множество. Вон как посверкивают они тихой гладью в солнечных лучах! Словно рыбки-красноперки на береговой травке-муравке. На дальних — волнующейся нежности трав уже не обнаружить — сплошное темно-зеленое море. На фоне этого моря едва различимы кустарники, а озер уже не видно совсем. Хотя на самом деле они там есть. Не так уж часто, но есть. Только вот прячутся в зеленотравье. Не видать их. Ближе к окоему луга упираются в темные полосы лесов. А за лесами теми, как сказывают торговые гости — купцы — и прочие бывалые люди, города русские Ольгов да Курск. Они тоже на Сейме-реке стоят. Только после татарского нашествия захудали вельми. Особливо Курск. Извели супостаты курян. Почти поголовно всех уничтожили… Зарос град травой-лебедой да бурьяном.