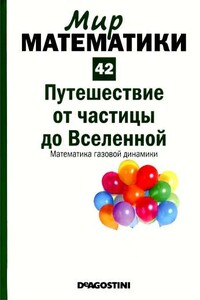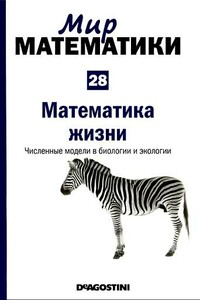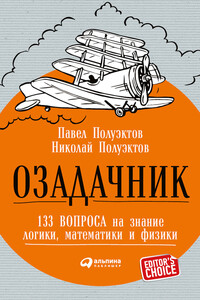Магия чисел. Математическая мысль от Пифагора до наших дней | страница 107
Покидая Землю и все ее элементы, последуем за Пифагором в более высокие сферы небесных тел, чтобы приобщиться вместе с ним к части той небесной гармонии «музыки сфер», которая подбадривала Кеплера в самые мрачные часы бедности, домашней трагедии, травли и двадцати одного года подавления, когда он считал, считал, считал, чтобы открыть законы планетарных орбит. Только пифагорейская уверенность в гармонии чисел во вселенной поддерживала его в перемалывании монотонной работы и подгоняла от одного разочарования к другому, пока наконец он не превзошел свои самые амбициозные надежды. Если нумерология доставляла удовольствие Кеплеру, ее стоит простить за любые шалости, что она с ним себе позволяла, пользуясь его упрямым легковерием.
Увидев раз, как закон музыкальных интервалов вдохновил Пифагора на философию чисел, следует посмотреть его глазами на полученную в результате музыку божественных декад. К своей радости по этому поводу, Пифагор открыл, что тетрады 1, 2, 3, 4 как таковые содержат небесную гармонию. Что до «октав» в нотах, то справедливо соотношение >2/>1 с их «пятой» в соотношении >3/>2 и с их «четвертой» в соотношении >4/>3. Эти базовые, установленные опытным путем факты гармонии были открыты (возможно) передвижением клина монохорда и подергиванием различных долей струн.
Пифагорейцы, а после них Платон вывели из элементарной акустики: вселенная одушевленная и небеса с планетами и «зафиксированными» на сфере звездами есть число и гармония. Одной детали доказательства вполне достаточно для примера. Поскольку в музыкальной гамме Пифагора семь интервалов и поскольку на момент изобретения гаммы было известно всего пять подлинных планет, и потому что эти пять планет, если прибавить к ним Солнце и Луну, становятся числом семь, то, следовательно, планеты есть музыкальная гамма. Принимая во внимание фундаментальные постулаты учителя, что все сущее заключено в декадах и что «все сущее есть число», ни один логик или математик не стал бы спорить с доказательством Пифагора или Платона, если только он не имел намерения транспонировать их в символы, с которыми только он был знаком. Такого рода опыт убедит любого, что результат, достигнутый прямым математическим (или дедуктивным) доказательством, может не иметь отношения к миру научного или чувственного опыта или просто не отвечать здравому смыслу. Если постулаты не согласуются с проверяемым или уже проверенным опытом, выводы, основанные на них, не имеют значения в чувственном мире. Подобные утверждения, вне всякого сомнения, банальны, но от этого они не менее справедливы. Любой человек с рациональным мышлением принял бы их, однако многие рациональные ученые убеждали коллег принять фактически непроверяемые утверждения, потому что они были выведены с помощью безупречной логики, математической или иной, из допущений, которые рациональному мышлению нет нужды принимать.