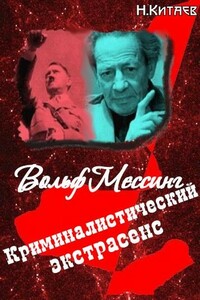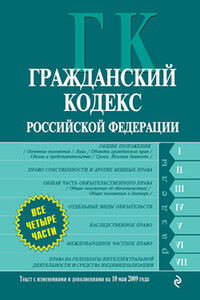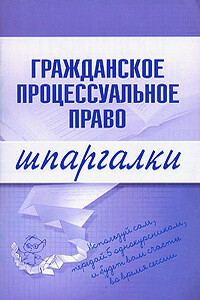Неправосудные приговоры к смертной казни | страница 11
Э. У. Бабаева о М. К. Жавнеровиче сообщает: «В процессе расследования уголовного дела по обвинению его в преступлениях против правосудия, в том числе и в неоднократном привлечении им заведомо невиновных к уголовной ответственности, было установлено, что он был самолюбив, считал себя непревзойденным специалистом, пренебрегал мнением коллег по работе»[17].
Исследование дел о привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц показало, что таких следователей, превратившихся затем в обвиняемых, отличали заносчивость, неумение прислушиваться к мнению других, завышенная оценка своих профессиональных способностей, самоуверенность, стремление продвинуться по службе, выделиться и быть поощренным[18].
Об этом подробно рассказывает в своей книге В. И. Сороко[19]. Автор – в прошлом следователь транспортной прокуратуры, арестованный и осужденный за незаконные методы работы. Жертвой его «профессионализма» стал некий Адамов, признавшийся в совершении изнасилования и убийстве К., за что судом направлен в ИТК сроком на 15 лет. Позднее установили упоминавшегося выше серийного убийцу Михасевича, одной из потерпевших по делу которого оказалась К. Адамов был освобожден и приобрел, по выражению журналистов, статус «главного обвиняемого», когда его следователь Сороко за незаконные методы работы был осужден к четырем годам лишения свободы.
По наблюдению Эриха Анушата, «бесконечное число убийц, как мужчин, так и женщин, производило вначале “хорошее” впечатление и вводило в заблуждение многих “знатоков людей”»[20]. Соглашаясь с этим, можно также утверждать обратное: «бесконечное число» не причастных к убийству людей признавалось и продолжает признаваться «знатоками» за виновных лиц, а результаты такого внутреннего убеждения могут иметь тяжкие последствия.
В данной книге описаны следственные и судебные ошибки 70–80-х гг., но за последние четверть века не произошло никаких принципиальных изменений, которые реально могли бы улучшить качество дознания и предварительного следствия в России. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» сделал во многом открытой ту сферу функционирования оперативных служб, которая десятилетиями в СССР считалась сугубо секретной и не подлежала прокурорскому надзору[21]. Однако методы воздействия на заподозренных лиц со стороны сотрудников правоохранительных органов нередко те же, что существовали во времена расцвета культа личности[22].