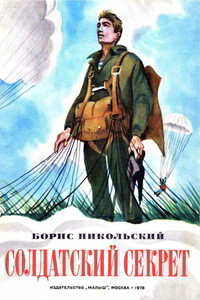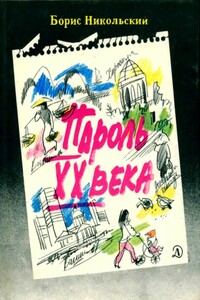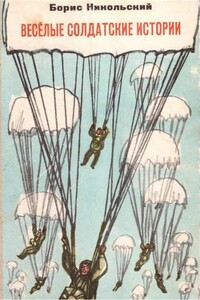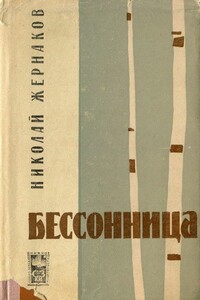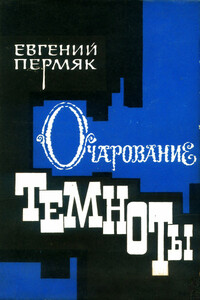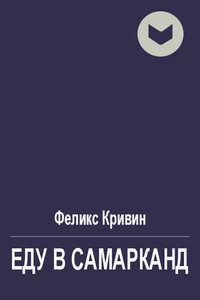Воскрешение из мертвых | страница 64
Однако подобные размышления лишь подогревали его интерес к Клаве.
Вообще последнее время он стал чаще раздумывать о собственной жизни. Если раньше, в прежние времена, только в минуты протрезвления его раздирали противоречивые мысли и чувства — от самопрощения до самобичевания, от глубокого раскаяния до утверждения собственного права делать все, что душа пожелает, — то теперь раздумья о себе, о своем прошлом и будущем, о смысле всего происходящего с ним занимали его едва ли не постоянно.
Он почти не работал. То есть каждое утро он исправно садился за письменный стол, даже закладывал чистый лист в свою старенькую, раздерганную пишущую машинку, но дальше этого обычно дело не шло. Зато мысли его катились легко и свободно.
Устинов во время своих сеансов, помнится, говорил: «Теперь, когда ваше сознание просветлено, когда вы решили раз и навсегда отказаться от алкогольного дурмана, когда вы ощутили достоинство трезвой жизни, вас непременно ожидает прилив творческих сил. Все здоровое, сильное, истинно человеческое в вашей душе, то, что прежде вы глушили, забивали, травили алкоголем, теперь возродится и оживет, вы почувствуете подъем духа, работоспособность ваша возрастет, вы снова ощутите уверенность в себе…»
Если Устинов имел в виду работу мысли, ее, так сказать, свободный полет, то он, безусловно, был прав. Если же он говорил о реальной, практической работе, работе пером, то тут дело обстояло далеко не так блестяще. И это, пожалуй, было главное, что тяготило Веретенникова.
Мать Веретенникова, в свои восемьдесят два года продолжавшая хлопотать по хозяйству, готовить, стирать, гладить, ходить по магазинам, была преисполнена радостного благоговения перед тем превращением, которое совершилось с ее сыном. Она жила в этой же коммунальной квартире, но в другой комнате, и в те утренние часы, которые Веретенников проводил за письменным столом, она старалась и появляться бесшумно, и вовремя приносить стакан с крепко заваренным чаем, и успевать первой на телефонный звонок, чтобы ответить с суровой и в то же время горделивой непреклонностью: «Позвоните позже. Он р а б о т а е т». Ее можно было понять. Она до сих пор еще не отвыкла вздрагивать при каждом звонке, как вздрагивала тогда — при многодневных его загулах, всякий раз ожидая, что сейчас придут и скажут: с вашим сыном несчастье… Иногда в те изматывающие душу дни ей хотелось разбить телефонный аппарат, вырвать с корнем розетку, отключить дверной звонок, чтобы не ждать, не мучиться. Но она не могла этого сделать: ведь каждый звонок нес и надежду — вот сейчас раздастся в трубке ослабевший, хрипловатый, покаянный голос ее сына: «Мама…» Столько лет она жила с невидимым, но так явственно и постыдно ощущаемым ею самой клеймом: м а т ь п ь я н и ц ы, что теперь, когда душа ее, наконец, распрямилась, когда позор этот, переживаемый ею с такой мучительной болью, остался позади, она словно бы старалась наверстать то, что было недодано ей жизнью, — возможность и право гордиться сыном…