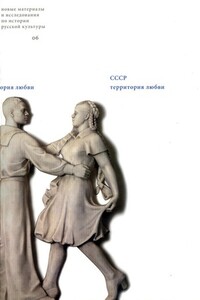Опасные советские вещи | страница 83
‹…› мы старались стереть нарисованную на асфальте свастику. Водой или просто сшаркивали ногой мел с асфальта. Но при этом кто-то всегда рисовал, много было нарисованной свастики повсюду[208].
Многие слышали рассказы сверстников о том, что такой рисунок может принести беду. Одну нашу московскую информантку в 1980 году «в детском саду мальчик пугал, что нельзя рисовать свастику даже на борту фашистского самолета в рисунке про войнушку, а то война начнется!»[209]. Она все равно рисовала опасный знак, но делала это с осторожностью. Примерно в то же время наш информант из Нижнего Новгорода узнал, что «свастику нельзя было рисовать, было ощущение, если нарисуешь, то сразу появится Сатана или демоны. Но особо смелые дети рисовали и сразу стирали»[210]. Это навязчивое состояние рисовать и сразу стирать свастику еще раз нам демонстрирует, что если в культуре есть запрет на совершение какого-либо действия, то немедленно будет возникать его нарушение.
Легенды о домах-свастиках утверждали, что с помощью запрещенного знака враги государства (немцы) подавали сигнал противнику или тайно мстили советским людям за победу в войне. В позднесоветские времена структурно похожие легенды возникали и о других знаках, спрятанных в зданиях (и не только) — если были подозрения, что к их строительству имели отношение евреи.
Евреи в СССР были той группой населения, которая вызывала постоянные подозрения и тревогу. Известная идеологическая антисемитская кампания 1948 года предлагала искать настоящие еврейские имена в литературных псевдонимах. В позднесоветское время появились слухи о якобы «настоящих» еврейских фамилиях известных диссидентов: якобы Сахаров — это «Цукерман», а Солженицын — это на самом деле «Солженицер». Низовые антисемитские настроения 1940–1950‐х годов, идеологические кампании по борьбе сначала с «безродными космополитами», а потом — с сионизмом, сложные отношения с молодым государством Израиль, стремление евреев эмигрировать — все это поддерживало представления о евреях как об ущемленной в правах (и нелюбимой) группе, для которой единственный способ высказаться — это оставить некоторый скрытый знак своей религиозной идентичности. Органы госбезопасности всерьез искали следы «сионистской пропаганды» буквально везде: от частных писем до публичных высказываний (c. 341). Неудивительно, что в позднесоветское время появились легенды об опасных «сионистских» знаках, которые евреи будто бы оставляют в архитектурных объектах в качестве «сионистской пропаганды». Так, например, высотные дома на Новом Арбате (так называемые «дома-книжки», построенные в 1960‐х годах), как слышал однажды наш информант, были спроектированы «архитекторами-евреями в виде Торы, раскрытой книги»