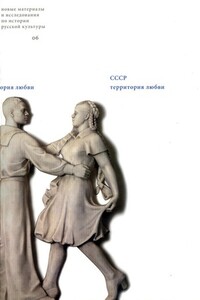Опасные советские вещи | страница 58
Этот пример похож на описанные в нашей статье — за одним, но весьма существенным исключением: те знаки подрывного характера действительно существовали и были встроены в изображение специально. Немецкая полиция объявила автора рисунка в розыск, хотя весь тираж уже был раскуплен, а сами открытки еще два года служили подобием пароля для участников Сопротивления. И это не единственный инцидент такого рода: участники Сопротивления неоднократно размещали скрытые знаки протеста в публичном пространстве, а нацистская цензура не только пыталась их найти и дешифровать, но даже прибегала к размещению псевдознаков с целью запутать аудиторию[130].
Норвежское Сопротивление было реальным явлением и пользовалось скрытыми знаками для консолидации своего сообщества. А вот «троцкистско-зиновьевская шайка» (с. 114) была сугубо пропагандистским конструктом. Даже если бы такая группа и существовала, вряд ли она назвала бы себя «шайкой» и, соответственно, не была ответственна за возникновение реальных «скрытых транскриптов».
Итак, как видим, гиперсемиотизация сама по себе может возникнуть где угодно, но есть несколько условий (своего рода «питательный бульон»), которые необходимы для того, чтобы она приняла массовый характер и стала частью настоящей, полноценной моральной паники.
Во-первых, у человека должны возникнуть чувство повышенной тревожности и ощущение потери контроля над происходящим: а вдруг за мной следят? А вдруг меня арестуют? А вдруг завтра я окажусь без средств к существованию? Такие чувства способствуют появлению конспирологических представлений о всемогущем враге (с. 89), способном вмешиваться в повседневную жизнь. И с таким врагом приходится как-то бороться.
Во-вторых, стремление распознать и обезвредить врага по оставленным им тайным знакам должно подкрепляться идеей, что оперативное распознавание вражеского знака — это способ избежать серьезной (часто смертельной) опасности.
В-третьих, идея невидимого и могущественного врага, который контролирует нашу жизнь, должна иметь очень широкое распространение и должна быть поддержана элитой, медиа и «низовыми» активистами (с. 51–53). В советском случае, как мы увидим в следующем разделе, этим занимались сначала представители карательных органов и пропагандисты разных уровней, а затем и рядовые граждане.
И только при соблюдении всех трех условий гиперсемиотизация становится массовой и выводит моральную панику на новый уровень, не только увеличивая ее масштаб и интенсивность, но и предлагая множеству людей способ найти и обезвредить врага. Инструкции по поиску врага начинают исходить уже не только «сверху», от чиновников и пропагандистов, но и появляются в «народных» текстах — в слухах и городских легендах об обнаружении вражеских знаков.