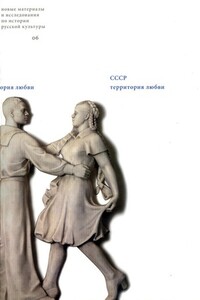Опасные советские вещи | страница 39
Читатель, мало знакомый с советской действительностью, прочитав эти строки, возможно, решит, что советские люди никогда не записывали слухи и городские легенды, раз за их распространение предполагалось наказание. Но это не так. Стремление делиться утаиваемой, но, возможно, правдивой информацией было довольно сильным. Фольклорные тексты во множестве фиксировались в дневниках: количество слухов и городских легенд, которые нам удалось найти в дневниках, опубликованных на сайте проекта «Прожито», — впечатляющий пример этому[94]. Для нашей книги мы использовали выборку из 227 записей слухов и легенд, которые мы нашли в дневниках, опубликованных на этом ресурсе, только за советский период, и еще 58 записей — с 1831 по 1916 год. Отдельный любопытный и нестандартный источник, с которым нам посчастливилось работать, — это тетрадь, в которую Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки, в 1979–1989 годах специально записывал слухи, ходившие по Москве[95].
В постсоветскую эпоху много бывших советских горожан записали свои воспоминания. Кто-то писал большие мемуары, а кто-то — коротенький абзац воспоминаний. Более того, в последние десять лет на волне ностальгии стали популярны форумы и онлайн-сообщества, объединяющие тех, кто желает поговорить о советском детстве и о жизни в СССР (например, сообщество «1975_1982» в «Живом журнале»), — они стали для нас богатым источником сюжетов.
Но у всех этих источников есть одно общее свойство. Автор дневника или воспоминания запишет то, что интересно ему, составитель спецсообщения — то, что в данный момент интересует КГБ. Кроме того, многие советские люди, даже если и записывали слух или городскую легенду, часто стеснялись того, что предметом их внимания становится «такая несусветная чушь» и «байка, распространяемая пропагандистами из ЦК». Поэтому необходимой частью антропологической работы является интервью с «живыми носителями», которых можно расспросить подробно о том, что они слышали и о чем думали в советское время. Поиск информантов мы проводили методом «снежного кома», когда информант рекомендует интервьюеру другого информанта (своего брата, друга, соседа, коллегу по работе). Не скроем, что из‐за нас пострадали наши коллеги, друзья и друзья друзей. Всего начиная с 2016 года мы взяли 72 интервью у жителей Москвы и ближнего Подмосковья, Санкт-Петербурга, Вологды, Екатеринбурга, Одессы, Харькова и Риги, 1941–1974 годов рождения. Больше половины информантов составили москвичи (39 человек). В процессе каждого интервью мы пытались выяснить, знаком ли информант с некоторым набором сюжетов, однако в целом интервью носили характер свободной беседы и могли длиться от сорока минут до трех часов (антропологи называют такие интервью полуструктурированными). С некоторыми информантами мы встречались не по одному разу. Интервью позволили нам не только зафиксировать новые сюжеты об «опасных вещах», но и понять контекст их бытования, а также узнать много нового о советской повседневности.