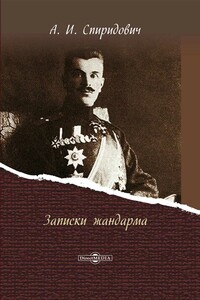Нагорный Карабах: виновники трагедии известны | страница 19
Так вот, когда исследуешь содержательную сторону этой пропаганды, то бросается в глаза на первый взгляд странный симбиоз двух тематических направлений: с одной стороны вечный зов к радости, к гордыне за исключительность, величие своего народа и его истории, а с другой — не менее постоянное щекотание его нервов, его покоя призывают к плачу, к скорби все за тот же свой народ и за ту же его историю. Но это вовсе не странный симбиоз, ибо радость-то у обывателя должна быть от того, что мол, вот какой армяне необыкновенно талантливый, гениальный, созидательный народ — не чета другим, и ему, этому обывателю есть что защищать, а скорбь и плач нужны для того, чтобы он ни на день не забывал, какие изверги его окружают, сколько бед они ему принесли, сколько еще могут принести, и тем внушать все тому же обывателю ненависть к соседу.
Ведь не внушив ненависть, трудно призывать к захвату его земель. Так что оба эти направления — две стороны одной медали. О том, как проповедуется исключительность армянской нации, я уже говорил, и здесь на этом не буду останавливаться, а скажу лишь немного о том, как растравливается душа обывателя скорбью. В этой связи вспоминаю прочитанное мною в прошлом году в одном из номеров «Правды» интервью, которое дал этой газете один общественный деятель из Германии, сказавший, что немцы оттого за столь короткий срок смогли встать на ноги, что постарались побыстрее забыть о несчастьях прошлого. Написал я вот эти строки и вспомнил, что моя покойная мама в детстве мне часто говорила: «Не плачь — в доме, где плачут, непременно случится беда.» Но для националистических кругов Армении подобных истин не существовало, оттого-то ни повысить жизненный уровень своего народа, ни избавить его от беды они не смогли. Нет, я вовсе не хочу сказать, что в истории Армении не было трагических страниц. Было, конечно, и их не могло не быть, живя на таком перекрестке дорог. Но у кого их, скажите, не было. И не могучий ли русский народ пережил трехсотлетнее порабощение. Ну, а если говорить о народе азербайджанском, то не он ли разделен и по сию пору. Но нигде так не эксплуатируют эту тему, как в кругах армянского националистического истеблишмента, и все потому, что, спекулируя на ней, легче держать народ в состоянии «взведенного курка». А в том, что плач этот зачастую лицемерный, а слезы — крокодильи, я удостоверился сам.
Будь, пожалуйста, повнимательнее, читатель, ибо я хочу поведать теперь «О Сумгаите», о том, как нечестиво используется эта тема. «Сумгаит», конечно, трагедия тех, кто погиб в этих событиях, кто был искалечен, кто был вынужден бежать, оставив свой дом, и об этом говорили многие из числа азербайджанской интеллигенции. Мир помнит, какую истерику подняли многие в Армении в связи с сумгаитскими событиями, как, обвиняя азербайджанский народ едва ли не в геноциде, попытались и эту, как им казалось, козырную карту использовать в целях аншлюса Карабаха. А как была использована эта тема для травления души карабахского обывателя, для усиления все того же плача по многострадальному армянскому народу. И знаете, о чем я думаю: а может быть это действительно народ-страдалец, если история столь часто подбрасывает ему в лидеры таких нечистоплотных политиканов. Судите сами: в Степанакерте, после этих событий в темпе был сооружен памятник жертвам, куда периодически водили школьников и студентов — плачьте, бедные соплеменники. А в то же время и все тот же националистический истеблишмент рядил и судил, какую выгоду он может извлечь из столь удачно проведенной операции. не верите? Так вот, слушайте.