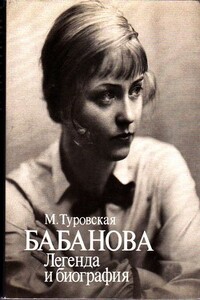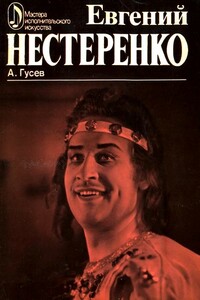Театральные портреты | страница 73
Южин был великолепен в этой роли, лакей-владыка, владыка-лакей, снежная шляпа Эльбруса и мирный аул у его подножия. Когда не было ролей романтических в собственном смысле слова, он творил романтику, по мере сил, в пьесах реального характера. Он искал своего Пропорьева, своего «демона» даже в Островском, даже в «Волках и овцах», в которых играл Беркутова. Из двух концепций мира — «быть» и «казаться» — он всеми явными и тайными стремлениями своей натуры принадлежал ко второй, ибо актер должен «казаться». На то он актер. И Южин казался высокого роста, будучи человеком средней фигуры. Этот оптический эффект меня всегда поражал. Вернее, меня поражал рост Южина в жизни, потому что на сцене он был, когда нужно — а нужно было очень часто, — крупен, высок и массивен.
Он, сколько я помню, кипел избытком сил. Часто, когда некуда было их девать, впадал в игрецкий транс. К весне бывало — конечно, в давние годы — он начинал тосковать. Потом уезжал в Монте-Карло и после недели-другой игрецкой лихорадки возвращался, облегчив тоску и, разумеется, карман.
{117} Так шли годы. Подкрадывалась старость, которая ступает, если не скользит, в бархатных сапогах. В Южине проявилась новая черта — ирония. Он очаровательно стал играть в комедиях. Это не было разочарованием в романтике. Это было разочарование в жизни, лишенной романтики. Он оставался в этом смысле верен себе. Его Болингброк («Стакан воды») или Фамусов — исключительные по мастерству и уму фигуры комедии. Ничему не удивляться и глядеть умудренным уже взором на играющий мир — ибо «Totus mundus agit histrionem».
С Южиным ушел в могилу, быть может, последний настоящий актер, — актер натурой, актер — творчеством, актер — литературой, актер — мировоззрением и мироощущением. В статье Южина «Личные заметки об общих вопросах театра»[87] проводится мысль, что пора вернуть театр его настоящему хозяину — актеру. Южин не мог примириться с тем, что в современной организации театра актер значит немногим более плотника и многим меньше электротехника. Все доводится или стремится быть доведенным до механической простоты, и театр становится похожим на подводный корабль капитана Немо, который от нажима кнопки ныряет или поднимается на поверхность, меняет курс или бросает якорь, увеличивает или уменьшает скорость, впадает в сон или стреляет из пушек. Южин писал апологию актера. В этом была его драматургия. «Никакие качества, — писал он, — не делают драматурга, раз он не разработал в себе еще и способности передать обществу задуманное им не в непосредственном общении с единичным читателем книги, а с