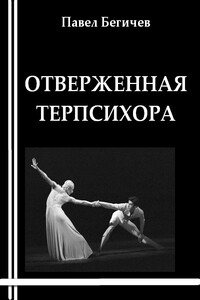Театральные портреты | страница 46
Судьба проекта благодетелей аналогична попытке С. Т. Аксакова направить Мочалова на «истинный путь», о чем Аксаков подробно рассказывает в своих записках. Аксаков пишет, что попытка «сближения» с Мочаловым не имела никакого успеха.
Он слишком снисходителен к этому эпизоду своих увлечений.
Следовало бы сказать, что попытка «сближения не только окончилась неудачей» — она кончилась грустно, скандально, безобразно. Мочалова вывели из дома Аксакова. О, конечно, он был пьян и, очевидно, вел себя неподобающе. Но факт остается фактом: гений русской сцены был вытолкнут лакеями русского барина взашей, и «с тех пор, — со странной даже для барина наивностью замечает Аксаков, — он у меня в доме не бывал».
Пьянство Мочалова, его буйное тяжелое похмелье, разумеется, явление в высшей степени прискорбное и противное. Но когда читаешь многие воспоминания, например, как у Аксакова, то поражаешься тому, что автор воспоминаний не обнаруживает даже попытки проникнуть во внутренний мир Мочалова. Почему, как он дошел до этого? Что это за «эс-ерик»[20], который якобы {69} подобострастно вставлял всюду Мочалов? И почему он так «уважал князей и графов», прибегая в обращении к ним, к эс-ерикам, а генералов (особенно военных) даже боялся. И неужели все дело только в том, что, как утверждает Аксаков, «Мочалов был недостаточно умен»? Нет ли в самой резкости определения Аксакова чего-то недодуманного, недооцененного?
В конце концов, эпизод с Мочаловым — один из характерных показателей внутреннего, совершенно неустранимого разрыва, существовавшего между барской интеллигентной Россией Аксаковых и народом, к которому Мочалов принадлежал не только происхождением, но и душой, органическим своим складом. Может быть, он был недостаточно умен для Аксакова и Шаховского[21]. Но и Разлюляев, и Ваня Бородкин, и Любим Торцов, конечно, были для них «недостаточно умны», из чего не следует, что они были неумны для себя, своей среды, для своего органического быта. Мочалов боялся, надо думать, не одних военных генералов. Он боялся — потому что был чрезвычайно далек от этого мира — всего вообще уклада русской жизни. Он был сам по себе. Они были тоже сами по себе. У него, как у всех его сверстников и всех близких к быту московского мещанства и разночинства, было что-то свое — свой ум, своя душа. Он памятовал, что не в свои сани не садись, и точно так же, надо полагать, болезненно морщился, когда в форме разных «сближений», тем паче насильственных предписаний, распеканий и нагоняев, очень учтивые, но и, при всей учтивости, грубые люди, покровительственно трепля его по плечу, садились в его сани.