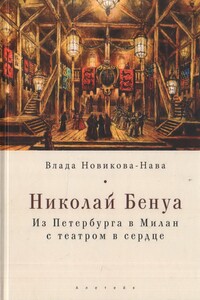Театральные портреты | страница 31
Несколько позже он снова пытается сблизить оба имени режиссеров, особенно в ту пору, когда МХТ оказался в полосе увлечения символистскими исканиями. После того как москвичи показали «Драму жизни» Гамсуна (1907 год), Кугель вновь вернулся к вопросу о сходстве основных позиций обоих режиссеров. «Черты различия между г. Станиславским и г. Мейерхольдом — более кажущиеся, сродство же их органическое: оно в том, что оба переносят центр тяжести на придаточные элементы зрелища, оба строят театр не на театральной способности человека, то есть на лицедействе, а на феерии, конечно более или менее художественной».
Кугель постоянно и упорно полемизировал с Мейерхольдом по поводу его деятельности в театре на Офицерской, считая содружество его с Комиссаржевской драматическим эпизодом в творческой биографии замечательной артистки и видя в его исканиях немало прямых, неоспоримых заблуждений. Фигура режиссера привлекала его пристальное внимание, он уже перестал утверждать, что Мейерхольд — художник с небольшим дарованием. Но с тем большим раздражением аттестовал он его спектакли, поражаясь тому, как Комиссаржевская могла отдать себя и своих актеров в столь неподходящие руки.
Спор, который Кугель вел с МХТ и Мейерхольдом, глубоко принципиален и неразрешим. Вернее сказать, он разрешен историей: «старый», актерский театр остался позади. Но не может даже возникнуть предположение о какой-либо сторонней подоплеке многолетней дискуссии. Вот почему Немирович-Данченко сохранил глубокое уважение к критику, несмотря на то что каждая статья Кугеля была обвинением по адресу руководителей МХТ. «Старый» театр, театр актера, отбиваясь от новых исканий, откуда бы они ни шли, тем самым пытался отстоять себя, {46} хотя и не слишком верил в чудо — что колесо истории повернет вспять.
Речь здесь шла не только о том, что под удар становится мечта об «анархической идиллии», «единой воле» и прочих принципах идеального «актерского» театра, не только о нависшей губительной экспансии режиссерской гегемонии. Речь шла здесь о многих проблемах. Спор касался и меры условности в спектакле, и роли художника в нем, и места разнородных компонентов в сценическом произведении, и жизнеспособности и оправданности традиции сценических амплуа, и права актера на «открытый» темперамент и т. п. — словом, многих и многих элементов театра, точнее, театра в целом, поскольку в исканиях режиссеров-новаторов Кугель усматривал покушение на «целокупную» природу сценического искусства.