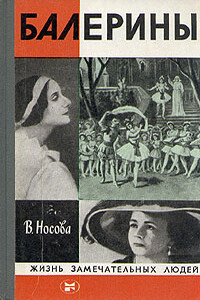Театральные портреты | страница 120
Он неважно рассчитывал иногда свои силы, но еще хуже, как большой, доверчивый, простодушный ребенок, {201} рассчитывал силу понимания толпы. Он не презирал ее, и в этом была его слабость. Он не издевался над ней, а горячо вместе с ней молился и плакал, а потому, нередко увлекая ее до самозабвения, никак не мог оседлать ее. Он брал ее минутами великолепного вдохновения, но не входил в ее толстую и, в сущности, презренную шкуру. И, отдавшись ему в порыве, толпа скоро освобождалась от его гипноза и забывала о нем, потому что он не задевал ее интереса, ее тупой наклонности к поучению, ее вечного смешения искусства с жизнью. Горев был прост. Он был Симплиций. Он тянулся к лунному лучу, к такой чудеснейшей, как откровение мира, ирреальности. А толпе всегда нужен грубый идол, который можно щупать. Ей нужна мера, и нужен вес, и нужна протяженность, и нужно многое, хотя бы оно было ничтожно, а не немногое, хотя бы оно было гениально.
Удивительно ли, что Горев слыл за «несчастного гастролера»? Весь театральный мир знал, что Горев «несчастный гастролер». Никто не говорил: «плохой актер», «не талантливый», «неинтересный». Никто не скупился на похвалы этому, действительно, редкому дарованию. А говорили только: «несчастный». И сам про себя он говорил: «Я ведь несчастный, сборов не делаю». Говорили все, говорил и он, — и не вдумываясь в трагедию, скрывавшуюся в «несчастии» Горева, — трагедию рыночного спроса, трагедию веса в искусстве, которое как молния, как проблески истины, не имеет ни веса, ни протяжения, а просто прекрасно, восхитительно, неизмеримо, и не может быть остановлено, потому что она миг, озарение.
И в жизни Горев был так же простодушен. «Несчастный гастролер» делил с товарищами рубль, бывший в кассе, и всегда конфузился, когда ему от плохого {202} сбора давали гастролерский гонорар. Он и этого не понимал, что брать большой куш — значит внушать о себе высокое мнение; что апломб — три четверти успеха; что скромность — вернейшая дорога к неизвестности. После Горева приезжал другой гастролер — сухой, негибкий, пустой актер. Но приезжал он в первом классе, глядел соколом, высматривающим добычу, кланялся снисходительно антрепренеру, брезгливо морщился при представлении товарищей — и сразу у всех зарождалась надежда. Приехал счастливец. Этот не выдаст. Этот прокормит. И в желудке у изголодавшихся начинала разливаться приятная теплота.
И сам он был прост и просты были его чувства. Для него театральная сцена представляла арену, где сталкивались любовь и ненависть, добро и зло, где белое было всегда белым, а черное черным, где любовник имел «всегда восторженную речь и кудри черные до плеч»…