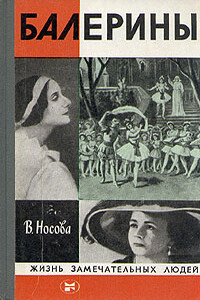Театральные портреты | страница 118
Здесь наступает период увядания. Всякому возрасту соответствует своя сфера. Любовником хорошо быть смолоду. Тогда и верится, и плачется… Но наступают другие годы, отмеченные другими заботами и стремлениями. Запоздалая страсть вызывает сожаления, иногда смех. Вовремя созреть для иных назначений — задача человеческой жизни. Надо подготовить себя к переходу в новую стадию и стремиться к тому, чтобы достойно доживать свои дни. Любовник становится резонером. В такой последовательности театральные амплуа переходят одно в другое. Сначала любят — без размышления без думы роковой, — затем рассуждают, наблюдая, как другие любят. И к этой мысли и надо приучить себя.
{198} Я видел в 1894 году в Париже в роли любовника знаменитого Вормса[175]. Ему было шестьдесят пять лет, но он шаркал ножкой и шамкал любовные речи. И, смотря на этого «вечного любовника», я думал о том, что Вормс до такой степени сросся и сроднился со своим амплуа, что отнять его роли — значит, вообще отнять его у театра. Он не выработал в себе нисколько «перехода» на роли резонеров. Он остался худеньким, сморщенным, морщинистым любовником, и в груди его пела все та же вечная формула: je t’aime![176]
И действительно, тот репертуар, на котором до сих пор держался французский театр и который играл у нас Горев, не давал возможности подготовить себе этот нечувствительный переход. Мимо Горева прошел весь репертуар Островского, прошла вообще вся реалистическая эпоха русского театра, не оставив заметного следа на его технике и сценическом приеме. Он продолжал гореть на сцене. Его металлический голос по-прежнему, с какой-то досадной настойчивостью, звенел и заливался, между тем как сам Горев играл стариков, у которых в сердце великая «остуда», и «печать думы» на челе.
В Москве, где общий тон исполнения вообще выше, чем в Петербурге, благодаря героическому репертуару, преобладавшему на сцене Малого театра, Горев не расходился с остальным ансамблем в такой мере. Но Петербург — город сероватый. В Петербурге не любят декламации и не знают пафоса, и здесь Горев, со своим приподнятым тоном, со своей запоздавшей страстью, часто совершенно противоречил окружающему. С Горевым случалось, что чем ярче он играл, тем он играл невернее. Хотелось ему крикнуть: «Да удержи ты свой {199} талант! Легче! Легче!» Но он уже не мог удержаться; он как будто вспоминал свои прежние годы, и ему все казалось, что он — воздушный, пылкий, грациозный Дидье[177] из «Марион Делорм»…