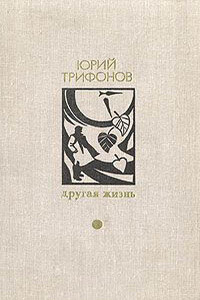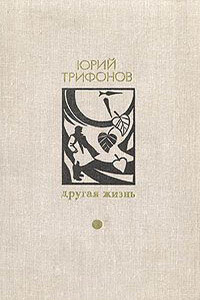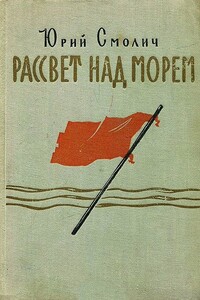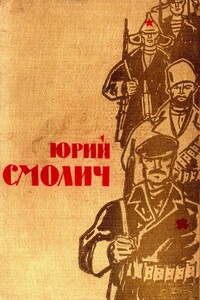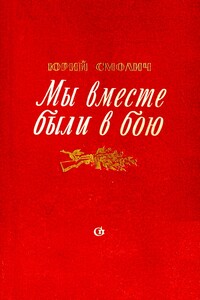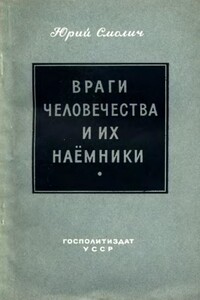Рассказ о непокое | страница 37
Разумеется, нехорошо, что на спектаклях "97" с женщинами случались истерики (это бывало в театре Франко), кое-кого выносили из зала в обмороке (видел на спектакле Запорожского театра). Это нехорошо, этого не надо: искусство не патология и существует не для увеличения числа нервно-психических больных. Но виной тут не натурализм пьесы, а натурализм актерской игры. "97" — трагедия в точном и высоком понимании этого слова. "97" должны играть актеры, воспитанные на шекспировском театре. Спектакль должен потрясать человека до глубины, по не ранить его душу и не калечить психику… "97" должен ставить Александр Довженко, а Копыстку играть — Бучма…
Мы долго говорили в тот вечер с Миколой Кулишом — я буду называть его в дальнейшем так, как привык, как все мы к нему обращались: Гурович! Не припомнить теперь, больше чем через сорок лет, всего нашего разговора, а что и сохранилось в памяти — коротко не расскажешь. То был первый разговор меж нами — в первый день нашего знакомства, но то был и самый длинный, самый содержательный меж нами разговор за все время, потому что позднее Гурович нашел себе другой круг, более близких по духу или характеру товарищей. Но тогда — сразу после прочтения пьесы, которая нас обоих глубоко растрогала, — беседа наша была взволнованна и откровенна: все обо всем… Что же до самой пьесы, то Гурович никогда раньше всерьез не брался за перо, а написать эти "сценки из жизни", как он их называл, надоумил и прямо-таки заставил его давний знакомый, вернее, товарищ еще детских лет и однополчанин на фронте писатель Иван Днипровский — позднее автор широко известных пьес "Яблоневый плен", "Любовь и дым". Ему же обязан Гурович и первыми подсказками по технике драматургии, он же был и первым критиком, — когда "сценки" были еще в черновике.
Второе, о чем мне хотелось бы рассказать, это — о названии. Я возражал против названия "Мусий Копыстка", доказывая, что оно на театральной афише "не звучит". Гурович колебался: название "Мусий Копыстка" уже полюбилось ему. Говорил, что пьеса, мол, не для большого театра, значит, проблема афиши отпадает, а на селе такие названия — по имени героя — нравятся. Этим он меня убедил, потому что и я тогда думал не о возможности постановки пьесы на сцене большого театра, а лишь о ее напечатании в гартовском сборнике пьес для села.