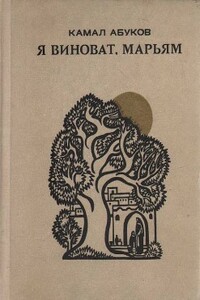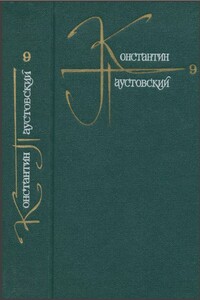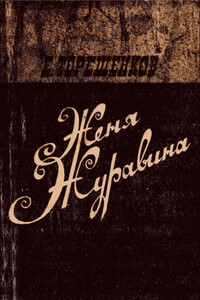Еще дымит очаг… | страница 16
Вот эта вечность, эта всеобщая неопределенность больше всего меня и пугала.
С того памятного мне навеки дня я долго носил в душе груз сомнения. Ни матери, ни отцу, ни учителям я не мог открыться. Дома, я знал, меня обругают за то, что усомнился в аллахе, а в школе засмеют за то, что я в него верил. Как будто они сами никогда не верили, эти мои учителя…
С того дня детское буйство мое пошло на убыль, я ушел в себя. Но с каждым днем все меньше и меньше я читал перед сном молитв, а когда присаживались к еде, стал забывать произносить обычное «бисмиллях». А когда меня укоряли в этом, я уверял мать и отца, что сказал «бисмиллях» про себя.
Так медленно-медленно уходил я от бога, а потом вдруг совсем освободился от мыслей во вселенском масштабе.
Ах, мельница, старая мельница, доведет ли бог еще услышать твою мирную музыку?
Когда я смотрю на «инженера», мне всегда становится лучше. Весь его облик вселяет в душу спокойствие и уверенность в будущем. В короткий срок он перенес три нелегких операции и уже очухался, уже по ночам тайно присаживается на кровати — хочется ему скорее выздороветь.
В одну из таких ночей, когда нам обоим не спалось, в полутьме палаты, под музыкальный храп «депутата» мы разговорились.
Накануне брат привез мне яблок из нашего домашнего аульского сада. Бросая студенту самое крупное яблоко, я спросил:
— А у тебя есть брат?
— Что?
— Брат, говорю, есть? Старший или младший?
— Нету, — немного помедлив, отвечал он, с хрустом надкусывая яблоко. — Был, говорят, старший, но умер маленьким.
— От малярии, наверное, — сказал я, вспоминая свое детство. Малярией в те годы все у нас болели. В жаркий день вдруг охватит ледяная дрожь. Укроют тебя одеялом, пальто, войлоком, а ты все стучишь зубами, и, кажется, нет спасения от этого пронизывающего до костей холода. — Старые у тебя родители?
— Старые. Отец колхозную пекарню сторожит, а мать всю жизнь болеет. Пока выучусь, пока на ноги встану, может, и не успею их отблагодарить.
— Успеешь.
— Я ведь до этого техникум кончил, работал у себя дома, на Самуре, на подстанции. Потом сбежал.
Я не высказал своего удивления, промолчал.
— Сбежал, — усмехнулся «инженер», — женить меня хотели, но не в этом дело. Невеста мне нравилась, но отец ее большой мошенник был. Пекарней колхозной заведовал, мешками народный хлеб воровал. Я знал все его махинации. Сначала решился поговорить с ним начистоту. Он осмеял меня. Не учи, говорит, жить, молодой еще, не суй свой нос в чужие дела. Зло меня взяло — написал в редакцию. Два месяца мне не отвечали, а потом приехала комиссия, ничего не установила и уехала. И что самое обидное: после этой комиссии вызывает он в дом к себе моего отца, бьет пальцем по своему красному носу и говорит: «Нет, не такие, как твой сынок, меня свалят, крепок я, крепок! А дочь свою я за твоего сына все-таки отдам, уговор дороже денег. Да и дурь у него из головы быстро вылетит, тряхнет его жизнь разок — и вылетит дурь; парень он грамотный, хорошим помощником мне будет».