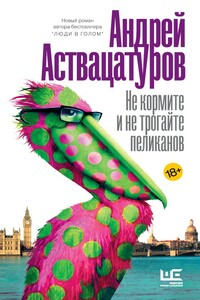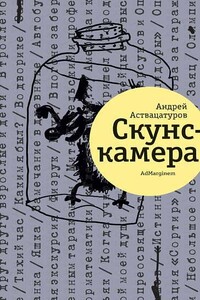Хаос и симметрия | страница 9
Эстетизм подарил истории еще одну важную идею, которую Уайльд передал блестящим парадоксом: “Жизнь подражает Искусству куда более, чем Искусство следует за жизнью”. Как это? Ведь всякому здравомыслящему человеку со времен Аристотеля вполне очевидно, что именно искусство подражает жизни, а не наоборот. Тем не менее в парадоксе Уайльда есть своя логика. Художник силой воображения открывает новые горизонты, а обыденное сознание эти открытия копирует и приспосабливает к жизни. Люди, прочитав книги, посмотрев на картины, начинают видеть в окружающем мире то, что им показал художник, или же подражать литературным персонажам. А события, ситуации, в которые мы попадаем наяву, увлекают нас, потому что мы видим в них очередные версии старых сюжетов. И для писателя есть прямой смысл обратиться не к реальной жизни, которая вторична, а к оригиналу, то есть к художественному произведению. Именно так поступает Уайльд. Во всех своих текстах без исключения он использует “готовые сюжеты”, уже где-то кем-то рассказанные, и зачастую рассказанные многократно. Но они для него – лишь сырой материал, к которому следует применить живое воображение и новые решения.
В “Кентервильском привидении” таким “готовым” образцом становится готическая (фантастическая) “история с привидением” (“ghost story”). Готическую литературу, или литературу ужаса, сближало с декадентским эстетизмом недоверие к идеалам Просвещения, а кроме того – представление о нерациональности, неразумности природы, жизнеустройства, ощущение присутствия в мире странных сил, которые делают человека своей безвольной игрушкой. Эпоха расцвета английского эстетизма (1880–1890-е годы) совпала с подъемом готической литературы. Старшими современниками Уайльда были такие признанные мастера литературы ужасов, как Брэм Стокер, автор “Дракулы”, и уже упомянутый мною Шеридан Ле Фаню. Готической традиции отдавал дань и Генри Джеймс, близкий к эстетским кругам. Впрочем, надо признать, что к моменту появления Оскара Уайльда на литературной сцене готические жанры вроде “истории с привидениями” стали элементами массовой литературы. Формулы готической прозы, еще в XVIII веке не впечатлявшие разнообразием, к концу XIX века сделались и вовсе ходульными, способными увлечь разве что невзыскательных читателей, которые, к несчастью, составляли к тому моменту подавляющее большинство.
Уайльд, разумеется, иронизирует над этими приемами, слегка издевательски препарирует их. Но одновременно, и это гораздо существеннее, стремится реабилитировать устаревший жанр, вернуть его в “большую” литературу, открыть в нем новые ресурсы.