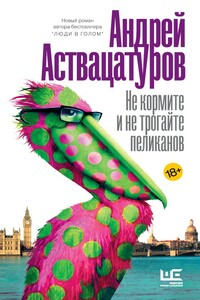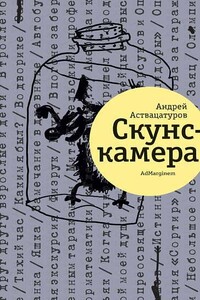Хаос и симметрия | страница 26
И они не заставили себя ждать. Уже при жизни Джойса о нем в большом количестве сочинялись и статьи, и монографии. Джойсоведение ширилось, наступало, вовлекало в свою орбиту все больше и больше филологов, в какой-то момент даже обзавелось собственным журналом “James Joyce Quarterly”. Однако к восьмидесятым годам прошлого века всё утихомирилось. Обстоятельная биография Ричарда Эллманна “Джеймс Джойс”, удостоенная двух престижных премий, и комментарии Дона Гиффорда к книгам великого мастера поставили в джойсоведении жирную точку, наподобие той, которую сам Джойс поставил в “Улиссе” после 17-й главы. Она в его случае означала, что силлогизм (таким он видел свой роман) разрешен, что доказательства предъявлены и теперь в качестве бонуса читателю – эпилог, солилоквий Молли Блум, полный альковных откровений.
С исследованиями текстов и биографии Джойса случилось нечто похожее. Наступила пора эпилога. Все было завершено, опубликовано, откомментировано, разжевано и переварено. Сменилось несколько поколений джойсоведов. Их армия заметно поредела, хотя по-прежнему пополнялась новобранцами, – эпилог еще не завершился. Оставались неучтенные записки, заметки, свежеобнаруженные письма Джойса к жене – они, впрочем, оказались малоинтересными, слишком личными и порнографическими. Оставалось еще слабо изученное окружение Джойса. Оставались тексты, в отношении которых у джойсоведов так и не сложился интерпретационный консенсус: сборник рассказов “Дублицы”, роман “Портрет художника в юности”, пьеса “Изгнанники” – всеобщий интерес к “Улиссу” и к энигматичным “Поминкам по Финнегану” отодвинул их в тень. Но к началу XXI века джойсоведение, кажется, окончательно себя исчерпало и неожиданно оказалось в ситуации кризиса, причем особого рода: когда за бессчетными деталями исчезает общее представление о художнике. У джойсоведов последнего поколения есть всё: тексты, многократно проанализированные, факты, архивы, теории. Но нет главного, того, что отличало первопроходцев, – нет энергии, напора, нет вдохновения и, главное, желания объяснять, зачем все это случилось в начале прошлого века и как нам теперь, в веке нынешнем, правильно обращаться с “Улиссом”.
Открывая книгу, мы жаждем удовольствия эстетического. А не научного, которое всегда испытывает дотошный аналитик. “Улисс” требует невероятных интеллектуальных усилий, требует обращения к комментариям и, видимо, никогда не наградит нас взамен удовольствием от просто прочтения текста. Слишком уж много времени мы провели в рассудочном неудовольствии, в изматывающей попытке разобраться, что тут, собственно, происходит. И все же эстетическое удовольствие здесь возможно. Более того, это удовольствие может сделаться утонченным, ренессансно соединяющим вечно непримиримые сферы: интеллект и чувство.