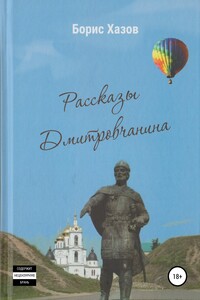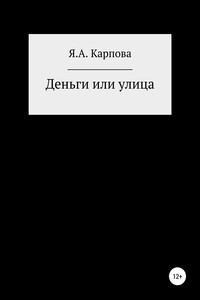Остраконы | страница 30
Мы живём в коммуналке на Волхонке, мне почти пять лет, и в моем распоряжении целых две наших комнаты, наполненных интереснейшими вещами. Можно поставить стул на кровать и добраться до огромных папиных книг по искусству – они стоят на верхних полках специально, чтобы я туда не лазил. Книги тяжеленные, с цветными иллюстрациями на всю страницу и совершенно особенным запахом. Какие-то вельможи, толстые голые тетки вперемежку с рогатыми козлоногими мужиками, строгие лица святых. Листать это можно было бесконечно. А ящички! Чего только не было в ящичках комода! Настоящие шприцы в хромированных коробочках, стетоскоп, лекарства, куча старых фотографий, папин орден… Я забывал всё на свете. Было ли это первым опытом одиночества? По большому счёту, конечно, нет. Скорее, первый опыт вседозволенности. Мама, кстати, с её невероятной интуицией, всегда замечала ящик, в котором я рылся, и мне влетало. Это по поводу вседозволенности.
А вот в 16 лет я уже вовсю писал песни про одиночество. Ужасные, надо сказать. А кто не писал? Бурное завершение полового созревания, отягощённое чем-нибудь безответным (нет, ну а как?), первые размышления о вечности, смерти и бренности мира, навеянные, скажем, Леонидом Андреевым. В одиночестве было нечто высокое, бесконечно печальное и приятно щекочущее сердце. Это правда было одиночество? Нет. Это были банальные песни про одиночество. Слава богу, никто не помнит.
А ведь я и потом очень любил ощутить себя в одиночестве. Я отправлялся на рыбалку на два-три дня. Чаще, правда, с парой друзей, и это тоже было здорово, но один – это совсем другое чувство. Я уезжал ночью с Савёловского вокзала за Калязин – Красное, Высокое, там и станций-то никаких не было, просто стоянка поезда три минуты. Огромная Волга, бескрайний залив, неухоженные луга, леса на горизонте – ни души. Я заряжался от этого пространства, от земли и воды, как аккумулятор. Я слышал голоса зверей и птиц, беседовал с камнями и рыбами, и даже походка делалась у меня совершенно другая – это мне сообщила моя первая жена, я однажды взял её с собой. Это было уже совершенно осознанное и необходимое мне одиночество, и я возвращался в Москву другим человеком – мне казалось, в новой коже.
Всё это легко объяснимо – во-первых, отпадает необходимость надевать на себя какие-то состояния, маленькие условные необходимости – а это в социуме делают все, как бы они ни уверяли себя в собственной естественности. Во-вторых, моя работа предполагает постоянный контакт (ненавижу слово «общение») с большим, иногда огромным количеством людей. Каждый из них, хочет он этого или нет, отъедает от тебя по кусочку – в той или иной степени. Многие при этом дают взамен своё, но тебя-то от этого больше не делается. Восстанавливаются все по-разному. Я – на дикой природе.