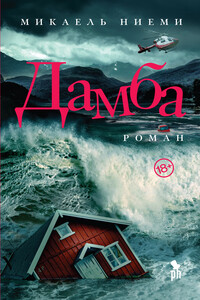Сварить медведя | страница 61
Поспешив отойти к стене, я обнаружил, что не один такой, там стояли и другие, они тоже не решались вступить в этот потный, колышущийся хоровод.
На ящике из-под картошки стоял певец. Тонкий, хрупкий, с почти детским лицом. Очень маленького роста, а голос такой высокий, что сразу не поймешь – мужской или женский. И песня была странной, я никогда ничего подобного не слышал. Он то ли пел, то ли смеялся, мне даже трудно описать. Голос его вдруг забирался высоко-высоко и начинал странно, похоже на смех, вибрировать. А потом, как по лестнице, с какими-то завитушками опускался вниз. Я никак не мог заметить, дышит он или все это поется на одном дыхании, но ритм был точно; он словно заполнял весь сарай, и даже стены, как мне показалось, подрагивали в такт его песне. Он пел что-то вроде: ля-ди-ли-ди, ля-ди-ли-ди, дамм-ляди-дам-да, и опять: ля-ди-ли-ди, ля-ди-ли-ди, дамм-ля-ди-дам-да. При этом язык у него ворочался так быстро, что я никогда и не думал, что такое возможно. И никаких музыкальных инструментов. Я не знаю никого в наших краях, кто мог бы насобирать денег на скрипку. Самодельные флейты, правда, были, пастушки носили их с собой на выпасы – считалось, что звуки таких флейт отпугивают хищников. Меня бы точно отпугнули. Но какой самый замысловатый инструмент может быть лучше человеческого голоса! Этот недоросток просто-напросто отбивал такт на фанерном ящике. Отбивал такт и пел. Пел и пел – и будто заворожил всех, кто набился в этот сарай. Он пускал трель за трелью, и парни и девушки в хороводе все теснее прижимались друг к другу.
И вдруг песня кончилась. Он замолчал так неожиданно, что все растерялись и смутились, обнаружив непозволительную близость. Девушки, служанки и пастушки опустили головы, уставились на свои сапожки или принялись разглядывать самодельные украшения на запястьях. Начали шептаться и слегка подталкивать друг друга.
Певец прокашлялся, видимо, накопилась слизь, отпил из бутылки, прополоскал горло и проглотил. Я смотрел на него как завороженный. Незаметный, маленький, узкоплечий, если встретить на дороге, и не глянул бы. Но тут-то он был самым главным. Танцоры бросали на него умоляющие взгляды. Он улыбнулся и закрыл глаза – словно заглянул к себе в душу, словно выбирал из огромного склада, где, как разноцветные мотки шерсти, скопились сотни песен. Потянул за нужную ниточку, попробовал голос, опять прокашлялся, на этот раз как-то странно, пискляво, – и запел. Теперь это был финский вальс, но не веселый и праздничный, какими обычно бывают финские вальсы. Нет, вальс был грустный и медленный: любимая ушла к другому, а он смотрит на звездное небо, тоскует и поет о своей тоске.