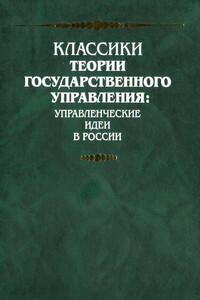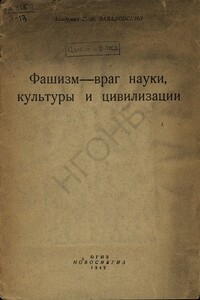Патриотизм и русская цивилизационная идентичность в современном российском обществе | страница 97
Отвечая на третий вопрос, следует произнести сакраментальное: времена меняются вместе с идентичностью Европы и России. Европа всё меньше походит ныне на мозаику изолированных друг от друга миров, но всё больше – на сверхдержаву по своему военному и экономическому потенциалу. А Россия на глазах становится открытым обществом с явно выраженным стремлением восстановить основы христианской культуры и, кстати, тратит на военные расходы значительно меньшие средства, чем единая Европа, не говоря уже о США. При этом именно Европа под напором США концентрирует стратегические военные объекты на границах России, втягивая ее в гонку вооружений и принуждая ставить под прицел земли братских славянских народов, за независимость которых не раз проливали кровь русские солдаты.
Можно вспомнить и о том, что кроме придуманных, хотя в ряде случаев и оправданных страхов, существуют и множатся всё новые и совершенно реальные угрозы. Среди них ресурсный голод, водный голод[95] и «просто голод» – пищевой, не признающий границ в глобализированном и унифицированном пространстве, а также другие глобальные проблемы, которые не будут ждать, когда мировое сообщество научится устранять причины, порождающие глобальные экономические и политические болезни. Одна из них – лавинообразное исчезновение с карты мира не только большей части языков, культур и малочисленных народностей, но и великих народов, в том числе европейских. Им также угрожает культурная и конфессиональная ассимиляция в постглобальном и постхристанском европейском (постъевропейском?) пространстве.
4. Самообразы Европы и парадоксы европейской идентичности
Не существует и не может существовать ни единого для всех и во все времена самообраза Европы, ни единой и завершенной истории европейского развития, ни самой монополии на право обладания «единственно верным» образом и историей. Но сосуществует множество различных, а иногда и конкурирующих представлений о европейской идентичности, которые легко разделить на два типа. Первый – это образы европейского прошлого и настоящего, закрепленные в языках и национальных культурах посредством написанных кем-то историй-рассказов, а вторые – проекты европейского и, соответственно, мирового будущего, т. е. его концептуальные прообразы, положенные в основу долгосрочных политических, социально-экономических и культурных стратегий европейского развития.
Трудность заключается не в том, чтобы создать адекватную типологию самообразов Европы. Эта задача представляется вполне выполнимой, хотя и чрезвычайно ответственной в том случае, если классификационная схема войдет в политические доктрины или отразится на определении стратегий (выражение «разделяй и властвуй» относится не только к типу правления, но и к классификациям, которых придерживаются политики). Подлинная проблема скрыта в том, чтобы в процессе политического строительства не забыть о тонкой грани, отделяющей традиционные образы и традиционную идентичность от прообразов-проектов и, соответственно, культурную самоидентификацию народов от политических стратегий (императивов). А проводить это различие необходимо, как минимум, по трем причинам.