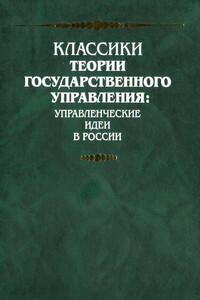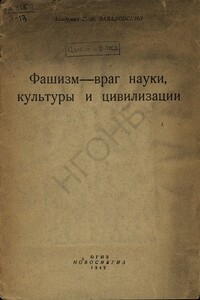Патриотизм и русская цивилизационная идентичность в современном российском обществе | страница 95
Разумеется, если продолжать эту мысль с учетом русской философско-религиозной традиции, то станет очевидным, что за оболочкой «контекстуалистского самопознания» скрывается феномен вселенского сознания, а следовательно, и тот особый универсализм, который не укладывается в прокрустово ложе культурной унификации. При этом следует напомнить, что Бердяев различал два понимания вселенскости с учетом конфессиональных отличий – горизонтальное и вертикальное: для первого вселенское единство означает охватывание как можно больших пространств земли и универсальную организацию, а для второго вселенскость есть не что иное, как «измерение глубины». Именно это понимание он относил к православию. Как точно подменил Е.П. Челышев, который посвятил многие годы теории и практике межцивилизационных связей, оценивая эту бердяевскую схему, «такое метафоричное толкование существенно упрощает и схематизирует представление о межцивилизационных контактах». Однако, если подойти к проблеме с другой стороны, схема Бердяева «заостряет внимание на ключевом аспекте при осмыслении этой тематики – на особой роли мировых конфессий в процессе становления локальных цивилизаций. При размывании религиозных основ мировосприятия исчезают и высшие смыслы мирового развития, его общечеловеческие (вселенские) горизонты. Единство в многообразии – эта формула, почерпнутая, в частности, из древней индуистской культуры, является универсальной»[93].
Зададим себе три вопроса. Первый: какую роль сыграли такие предсказания и ожидания в истории Европы? Второй: насколько они были оправданны? И третий: насколько они конструктивны в наши дни, когда Европа стала относительно единой (относительно Европы до- и послевоенной), а демократизирующаяся Россия, потерявшая значительную часть исконных территорий, только в наши дни с огромным трудом и риском преодолела инерцию окончательного распада?
На первый вопрос мы уже ответили: народы объединяют общие угрозы, играющие созидательную, консолидирующую роль. Перефразируя Дидро, можно сказать: если бы общих угроз для европейцев не существовало, их надо было бы придумать. Собственно, преимущественно этим и занимались многие политики и интеллектуалы в течение ушедшего столетия.