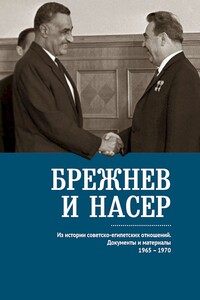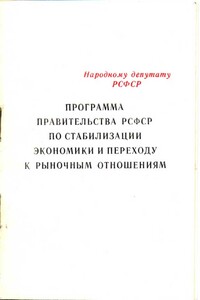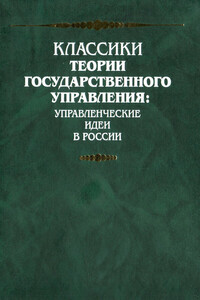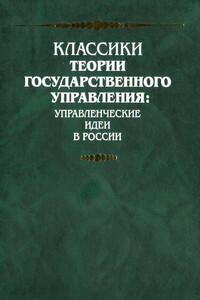Патриотизм и русская цивилизационная идентичность в современном российском обществе | страница 93
В результате, как отмечают авторы, всё то, что было характерно для американской культуры, стало теперь олицетворением западной культуры в целом: «Так американское искусство превратилось из регионального в мировое, а затем и в общечеловеческое искусство. <…> В этом отношении послевоенная американская культура заняла то же положение, что и американская экономическая и военная мощь: на нее была возложена ответственность за сохранение демократических свобод в «свободном» мире. История перемещения центра художественного производства и, что еще более важно, художественной критики является всего лишь одной из сторон сложной идеологической операции, которая сделала американскую глобальную гегемонию естественным и неизбежным следствием кризиса Европы».[88] Причем, как ни парадоксально это звучит, «даже проявления самого яростного национализма в европейских странах, приведшие к столь ожесточенным конфликтам в первой половине столетия, в конечном итоге сменились соперничеством за то, кому лучше всего удастся выразить крайний американизм»[89].
При этом антиамериканизм в сознании европейцев хорошо уживается с верностью основным догматам «американской веры», и прежде всего – веры в то, что мир жестко разделен на единую западную демократию и страны, в разной степени подверженные заразе тоталитаризма. Как писал А.С. Панарин («Агенты глобализма»), «из подозрения в тоталитарных поползновениях выведена только американская культура». Остальные же четко подразделяются на непримиримых врагов и идеологических попутчиков. Одни подлежат устранению (великие цивилизации Востока и России), другие – «отбору на возможную пригодность» (это, по мнению Панарина, касается западноевропейской культуры, которая рассматривается не в своем самодостаточном значении, а только как «попутническая» и промежуточная).
Такое деление мира на «оазисы демократии» в «пустыне тоталитаризма» закономерно приводит самих европейцев к тому, что в число антиевропейцев они при необходимости всегда могли и могут включить не только отдельные европейские и неевропейские народы, государства и межгосударственные союзы, но, как показывает история, и целые культурные миры. Не являются исключением и народы, без которых трудно представить историческое становление Европы. Вопиющий пример – отношение к славянству, в том числе и к славянским народам, ставшим ныне (ценой недолго хранимого суверенитета) частью условно единого политического тела – Европейского союза. Да, новый союз дает надежду, пусть даже призрачную, на благополучное сосуществование, но инерция истории сильнее робких надежд. Нелишне в этой связи вспомнить, что апологетами антиславянства были не только нацисты, о чем хорошо известно, но и многие просвещенные европейцы – властители умов прошлого века и начала нынешнего, создатели учений, кардинально изменивших мир и заложивших фундамент нынешнего раздела. Не следует забывать: стройплощадка евродома, объединившая европейцев, разделила славян, в том числе и единоверцев, на «своих» и «чужих» сильнее, чем антихристианские идеологии середины ХХ в., авторы которых, как известно, не были чужды славянофобии. Не составляли исключения и основоположники «научного коммунизма» – пророки общества без наций и классов, не скрывавшие своего презрительного отношения к балканским славянам, которые, по их мнению, не заслуживали свободы, поскольку якобы ничего не сделали для Европы и ее развития