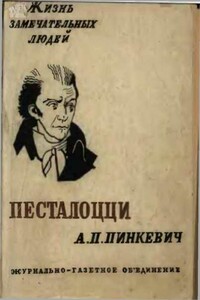Воздушные бойцы | страница 22
Первые сутки — бесконечные уколы. Спать не сплю, плаваю в каком-то полубреду. Пытаюсь сосчитать, сколько мне делают уколов, но не могу сосредоточиться, сбиваюсь и забываю. Иногда вижу встревоженные лица врачей. К утру, однако, стало полегче. Температуру сбили.
В палате нас десятеро — все ранены в голову, в лицо. В углу на кровати сидит солдат. Из-за бинтов виден язык, течет слюна. Солдат держит в руках полотенце и мотает головой. Сестра объясняет: «Вот, привезли, а откуда — не знаем. Говорить ему нечем и писать не может. Прямо беда…» Ночью привезли моряка, поставили койку в коридоре, возле нашей палаты. Рано утром я потихоньку ходил и видел эту кровать. На ней лежал человек плотного телосложения с открытым лбом и густой шевелюрой. Лица не было — вместо него окровавленные бинты и три трубки. Что-то хрипело, булькало в них. В бою моряку снесло всю нижнюю часть лица и верхнюю челюсть. Через сутки он умер.
Вскоре мной начали заниматься всерьез. Рта я не мог ни открыть, ни закрыть. Он существовал как бы сам по себе. Занимался мной опытный врач-челюстник. После первого же тщательного осмотра он с профессиональным удовлетворением отметил хорошую работу того неизвестного мне зубного врача, который оказал первую помощь в ночь на 13 июля. «Вам повезло, молодой человек! — сказал он. — Вы даже сами не знаете, как вам повезло!» Ну кое-что я уже понимал, насмотревшись на раненых. Особенно здесь, в челюстном отделении. Может быть, потому что я в какой-то мере был показательным раненым — ранение серьезное, но с хорошими перспективами на благополучное излечение, — меня превратили в подопытного кролика. Каждый раз, когда хирург-челюстник занимался мной, вокруг кресла собиралась группа молодых врачей, и лечащий врач, делая свое дело, параллельно читал лекцию о челюстных ранениях. [30] Я понимал, что это необходимо, хотя в роли наглядного пособия чувствовал себя не лучшим образом.
В первые же дни войны, когда хлынул поток раненых, выяснилось, что у нас мало хирургов-челюстников. А челюстных ранений было очень много. И вот в таких условиях и на таких раненых, как я, опытные врачи давали практические уроки своим молодым коллегам. Прочищая мне рот, врач демонстрировал, как надо ставить шины и как надо их правильно натягивать. Потом похвалил меня за выдержку и терпение, но, само собой, ликования в моей душе эта похвала не вызвала.
Челюсть срасталась не быстро, но правильно. Открылся наконец левый глаз. Мне заменили дощечку во рту, поставили «модный» беленький шланг, заменили воронку. Пищу я принимал жидкую — молоко, бульон, манную кашу. Когда я понял, что мое лечение теперь в основном зависит от моего терпения и способности ждать, мне стало тоскливо. Впервые я почувствовал, что смертельно надоело сосать кашу через трубку, ходить с дощечкой во рту и не иметь возможности разговаривать. Потом я понял, что в самом этом недовольстве был самый верный признак моего выздоровления, но так уж мы устроены, что стоит только нам избавиться от самых мучительных тревог и раздумий, как мы уже перестаем видеть в этом благосклонность судьбы и мысленно отвечаем ей черной неблагодарностью. Впоследствии, когда все пережитое уже стало прошлым, я не раз думал о том, как благодаря стечению счастливых обстоятельств я не только остался жив и вполне работоспособен, но и сохранил свои естественные природные черты вместо той кровавой лепешки, в которую июльской ночью превратилось мое лицо.