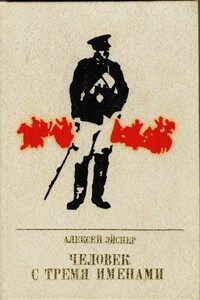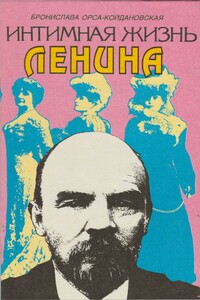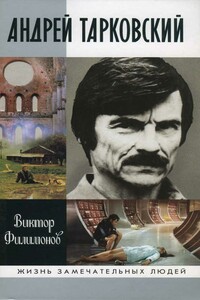Двенадцатая интернациональная | страница 19
— Это ты про Росинанта?..
Довольно ядовито, конечно, но я промолчал. О чему тут спорить, когда с тех пор, как были написаны эти стихи, прошло ни много ни мало, а десять лет. Смею утверждать, что за такой срок я несколько переменился. Стихов, например, не только не пишу, но даже не читаю. Произошли во мне и некоторые другие изменения, касающиеся не только литературы. Но с чего все-таки меня угораздило вспоминать, да еще вслух, юношеские свои словоизлияния насчет ветряных мельниц и непонятных героев?
Ганев деликатно передвинул в угол тело Чебана, снял с крючка его латанный на локтях пиджачок и, сложив, подсунул ему под голову. Потом он зевнул и потянулся так, что захрустели суставы.
— Не в том уже я возрасте, чтобы дрыхнуть вниз головой, как петух на насесте, — он кивнул в сторону Иванова. — Чем всю ночь так мучиться, лучше бы спать по очереди. Я, когда садился, заметил, что передняя половина вагона не поделена на купе. Может, там и не все места заняты. Пойду посмотрю.
Он встал, переступил через ноги Дмитриева, сдвинул дверь и вышел. На мгновение вместе с ветром ворвался страшный грохот, должно быть, тамбур был открыт. Никто, однако, не проснулся. Я опять остался один.
…Если поразмыслить как следует, то я не совсем беспричинно вспомнил о рыцаре Печального Образа. Стихи стихами, но ведь Дон Кихот и Санчо Панса — единственное, что всегда связывало меня с Испанией. Что же касается донкихотства, то при желании так можно назвать вообще всякую готовность защищать истину. Если то, что я сейчас делаю, считать донкихотством, то достаточно взглянуть на вот этих спящих вповалку, чтобы признать донкихотство массовым явлением. Но опять я уклоняюсь в сторону. Ведь не из-за того же, в самом деле, я еду теперь в Испанию, что в юности писал стишки о Дон Кихоте?
3
Самый момент, когда я окончательно решил ехать, запомнился очень хорошо, хотя я и не сразу заметил, что решение уже принято. Произошло это в первых числах сентября на митинге, на котором выступала Пасионария. Начинался он, как обычно, поздно, в восемь тридцать вечера, дабы все успели пообедать (во Франции никто и ни при каких обстоятельствах не посягнет на священный обеденный час), но, предугадывая, что в данном случае даже Зимний велодром окажется мал, мы вышли в начале восьмого, и тем не менее поезда метро, направляющиеся в Отёй, были полны. Я предусмотрительно взял два билета первого класса, но, видно, подобных хитрецов нашлось немало, потому что нам с трудом удалось втиснуться в привилегированный вагон, переполненный так же, как остальные. На пересадке все повалили в одну сторону, и встречные, кто с недовольным, а кто с испуганным видом, жались к стенкам переходов. Пока мы дошли до платформы нужного направления, там скопилась такая толпа, что попасть в приближающийся состав казалось просто безнадежным. К счастью, на сей раз в первом классе ехали его обычные пассажиры, безразличные, если не враждебные к тому, что сейчас будет происходить на арене Зимнего велодрома; большинство их выходило, чтобы пересесть на Отёй, и мы с многочисленными попутчиками смогли вдавиться вместо них.