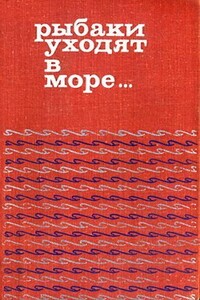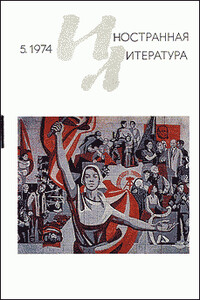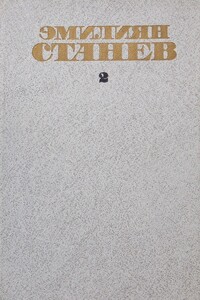Последний раунд | страница 42
Последние улицы до арены иду, неспособный остановить воспоминания. Шесть лет здесь, вдалеке от дома — пускай, теплоход пересечет это «вдалеке» за четыре дня, однако море кажется бесконечным, раз невозможно вернуться. И до этого — три года там, с семьей: оттого, что приходилось скрывать и прятаться, дом казался далеким уже тогда. И тогда, и теперь отовсюду чудится шепот: что же, будет мне судья на небе, а кроме него — пускай себе шепчут, не стану их слушать. Ты мне грех — ты же и кара моя: я тебя не люблю. Любил — это да: готов был платить за любовь жизнью — и ведь заплатил. Моя жизнь осталась там, а мы — здесь: смотримся друг в друга — и никак не сказать, что нет любви, что пропали, что ждем чего-то, будто не знаем чего, а знаем мы точно.
В раздевалке пусто; одежду и сумку — в шкаф с полустертой цифрой: шесть или восемь. Проходя мимо зала, заглядываю: единственный луч, плотно-желтый, пересекая темноту, упирается в центр ринга. Следующий час — в гимнастическом зале, еще полтора — у груши: удар за ударом, пока не случится обед. Только когда ложка уходит в суп, вспоминаю, что не ел со вчера; в голове обрывками строчки, мысли, нескладные одна ко другой, — и почему-то шум: от усталости — или же теплоход бьет белой грудью о волны. В мутной поверхности супа отражается тренер: кто-то заболел, завтра в полвосьмого бой, разминка — в полпятого. Сегодня можно домой; спасибо, тренер; выспись как следует; хорошо, тренер; ну, береги себя.
Шесть или восемь; убирая перчатки в сумку, замечаю трещину на синей коже: ничего страшного, эти — тренировочные. Для боя — другие, на них не сосчитаешь трещин и швов: они от отца — подарил после первой победы. Какая-то тревожная мысль — и тотчас вспоминаю, гляжу на пиджак, одиноко повисший в пустом шкафу, опускаю пальцы в карман. Конверт на ощупь гладкий и холодный: перед глазами твои пальцы — бегут, бегут с бумаги на шелк. Достаю сложенный втрое лист — и снова: Аллах забрал отца во вторник утром, похоронили вчера, береги вас Господь. О прощении — ни слова: ни мать тогда, ни отец теперь не сумели простить — что же, будет мне судья на небе.
Возвращаться домой через город, полный солнечным светом, непривычно — и словно неправильно. Горит ярче утреннего; закроешь глаза — и бегут под веками слова белесыми бликами: вторник, Аллах, вчера. Наконец дома, бегом через три этажа, открываю дверь — тебя нет: нет ни в спальне, ни в кухне, ни в углу у умывальника. На секунду странное облегчение: все кончено — и вот уже гадаю, что заставило тебя выйти из дома, не оставив записки и не предупредив.