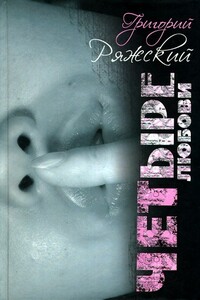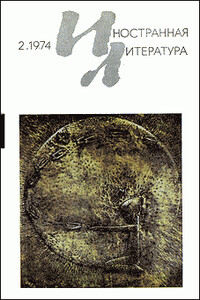Последний раунд | страница 35
Соня улыбнется и скажет, что никто не умрет, и Любочка повторит: никто. Мальчик никогда не вернется к своему медвежонку, и медвежонок знает это — но не только это. Медвежонок знает, что никогда не забудет мальчика, а мальчик — медвежонка: сколько бы лет ни прошло, сколько бы цветов ни отцвело на крыжовенной ветке.
Новая земля
Я подумал: там, под нами, пожар. Еще четверть часа — и сложим крылья в самом пламени. Нет же, Людмил, это осень: та осень, о которой в стихах, которые пишет страна, в которой осень совсем мокрая. Вот она, твоя русская осень: через четверть часа сядем в Софии.
Справа увидел горы — не слишком рослые, цвета ореха: в общем, славные. Слева желтел город: жались друг к другу квадраты вылизанной солнцем черепицы. Во рту полоскалась карамелька: мятная, ее дала стюардесса, стоило объявить снижение. Все было хорошо. Я говорил себе: мы над Софией, Людмил, — и тут же кивал своему отражению, будто нарисованному поверх крыш и улиц, почти не слыша в себе былой нелюбви.
Все было не по плану.
Самолет опустился небрежно: будто на ощупь, дважды взбрыкнув. Я прошел рукавом, припечатал паспорт; Васка ждала за невысоким заборчиком, доедая булку. Мы поцеловались, у меня во рту остались тепло и крошки. Васка, сказал ей, как же было плохо без тебя, а Васка спросила, насколько я голоден. Я почти не спал, отвечаю, боялся, улетят, оставят меня. Мы искали такси, продолжая напрасно спрашивать и некстати отвечать. Видно, этого и не хватало мне в Москве, потому-то я расчувствовался и повторил: Васка, как же было плохо без тебя, — и, в общем, слова побежали по кругу.
Ехали по шоссе; Васка лежала головой на моем плече, а я глядел, как несутся навстречу панельные девятиэтажки и повялая сирень и стройка, вся в рыжих башенных кранах. Повсюду, во всей этой неприглядности мне поначалу виделась Москва. Я даже забыл ненадолго, как лезли в окно облака и София, крошечная, развертывалась под крылом, — и без труда представил, будто не было ни самолетов, ни аэропортов, а такси все бежит себе по Ленинградке. (Может быть, тянется от Москвы до самой Софии такое вот шоссе, перечеркнутое эстакадами, зажатое между бензоколонками и жухлым кустарником: едешь — и не знаешь, какой кустарник еще наш, а какой — иностранец.)
Вскоре машин прибавилось; мы поехали медленнее, а потом и вовсе встали. Тогда сквозь привычно московский пейзаж проступила София: тут и там загорался истинно пушкинский багрец — налитый пламенем каштан, окровавленный шиповник. Все это спорило с мышиного цвета рисунком, загодя сложенным в мыслях. София всю жизнь мерещилась мне тусклой, несчастливой, недолюбленной, какой описывал ее отец, побывав здесь дважды. Я разбудил Васку: Скажи, отчего такая осень. Какая, спросила Васка. Я попробовал это слово на языке и все же не удержался: Русская.