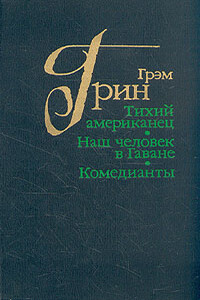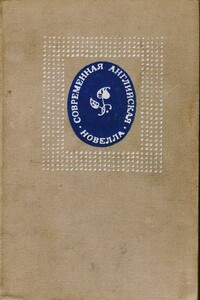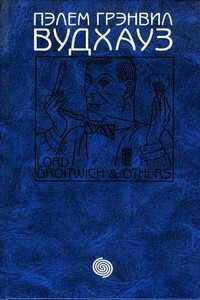Десятый | страница 59
Термин «повесть» по отношению к «Десятому», конечно, условен. Он указывает лишь на то, что в отличие от романа перед нами произведение значительно меньшего объема. Жанр повести, получивший широкое развитие прежде всего в русской литературе, предполагает стихию рассказывания, изложения какой-либо истории. У Грина же (вспомним, что первоначальный замысел был нацелен на создание фильма) очевидна ориентация на «показ», на драматическое «действо», которое разыгрывается на двух сценических площадках: в тюрьме и родовом доме Шавеля, куда он приходит под чужим именем Шарло. Населенный воспоминаниями героя дом, уже несущий печать чужой для Шавеля-Шарло жизни, также становится своеобразным и очень активным участником действия, таким же, как снедаемая ненавистью Тереза, ее глуповатая мать, наглый Каросс и, конечно, Шавель, чья душа мечется между прошлым и настоящим, страшится будущего и живет надеждой.
Развертывая перед читателем морально-психологическую драму, Грин, как всегда, придает ей и внешнюю напряженность, вводя неожиданные повороты действия, соединяя обыденность с исключительными ситуациями, создавая атмосферу кошмара (когда Каросс почти преуспевает в своих доказательствах, что он — Шавель). Напряженность действия отражает в то же время и духовную эволюцию героя, который из человека, охваченного лишь животным страхом смерти, превращается в человека, способного к самоотверженности, жертвенности, прошедшего путь от эгоистической сосредоточенности на собственной судьбе до «жалости, нежности, сострадания, какое испытываешь к несчастью совсем постороннего человека».
Вот почему, как бы ни была грустна эта повесть-драма, с какой бы настойчивостью ни утверждалась в ней мысль о неотвратимости смерти, от которой нельзя откупиться, последняя, завершающая сцена, когда умирающий Шавель пишет дарственную Терезе, оставляет ощущение света, надежды, веры в человека.