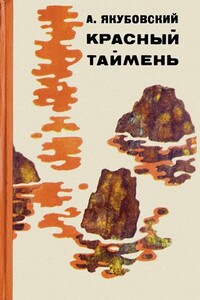Квазар | страница 46
Голоса окружают меня. Сначала они шепчут. Потом усиливаются, становятся все громче, громче…
Грозовыми перекатами несутся они среди сосен:
— Кровь на руках!
Я вскакиваю, бегу… Вот черная вода с плавающими в ней звездами. Как блестки жира.
Я быстро опускаю руки в ее черный блеск.
Шум стихает. Они за спиной, рядом.
Смотрят.
— Во грехах родились, во грехах скончаемся, — склоняясь ко мне, бормочет старец. Я чувствую, как его борода щекочет шею.
Я мою, мою, мою свои проклятые руки…
На следующий день приплыли на лодке кузнец и двое ходоков. Они нашли меня на берегу. Говорят, я сидел и тер руки пучком осоки. И говорил ворчливо:
— Мыло бы сюда. Сам этого не помню.
Ничего не помню, даже как меня тащили через болото, по неясной болотной тропе…
18
Открыв глаза, я увидел Копалева. Но смутно, черным шевелящимся силуэтом.
Меня ослепил жаркий свет. Сильно ломило голову и словно стягивало ее узеньким обручем — железным, тугим.
Но глаза привыкли к свету, и я увидел все ясно, четко.
Копалев сидел рядом на скамейке, руку свою держал на моей. Смотрел на меня. Сам старенький, в латаном кителе, лицо маленькое, коричневое, жалостно сморщено. Вид нездоровый, нижняя губа обметана простудной сыпью…
Я сел на кровати, свесил ноги.
Осмотрелся — чистая изба, дожелта выскобленный пол.
Постель белая, пахнущая свежестью. На руках — бинты.
В раскрытых окнах шевеленье и всплески белых занавесок.
Радостное сверканье. На полу — солнечный вензель. Посредине его — симпатичный белый котик удивительной чистоты. Моет голову — сначала долго лижет лапку с розовыми подушечками, а потом трет себя за ушами, и снова лижет, и снова трет…
Тишина, покой, мир.
— Вот ты и вернулся, — говорит Иван Андреевич, робко поглаживая мою руку. Поразмыслив, добавляет: — Если тяжело, то молчи… Я уже знаю. Парменов разъяснил. Кузнец. Интересный, между прочим, человек. Но главное — ты здесь. Вернулся.
— Я-то вернулся, — прошептал я. — Я-то вернулся. А вот… вот… вот… — И разрыдался…
— Реакция, — произнес кто-то ученое всеобъясняющее слово, и все ушли. Дверь, заскрипев, притворилась за ними. В избе остались я и белый котик. Он запрыгнул на подоконник и ловил занавеску.
Я уткнулся в подушку — рыданья жгли, душили меня… Я оплакивал Николу, себя, всех-всех…
Вся ненужная, лишняя жестокость мира обрушилась на меня. Во всем я ощущал смерть, видел ее быстрые следы…
Наивное, чистое восприятие мира ушло от меня навсегда.
Я стал другим.
Копалев вызвал по рации самолет и отправил меня в город. Винт завертелся, кромсая воздух и мошкару. На взлете самолет задел своим шасси сунувшегося глупого щенка, и я мельком увидел внизу бьющийся рыжий комочек. Это укололо в грудь, сжало виски жесткими пальцами.