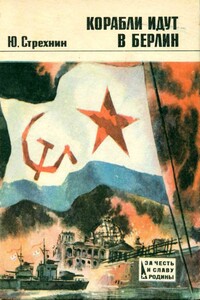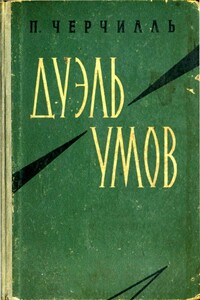Дерзкие рейды | страница 46
— Мы теперь двигаемся на восток, к Москве, и фашистские маршевики — туда же. Вроде бы попутчики. Так уж постарайтесь поуменьшить их количество. Чтобы наш лесной воздух почище стал! Старшим назначаю Барундукова.
Группа бесшумно скрылась в чащобе. А через час опять ушел командир с двумя разведчиками. К той же разрушенной мельнице.
Если немецкие дозорные покинут свой пост — это явится признаком предстоящего выхода гитлеровцев из Борок. И тогда Шеврук пошлет связного с приказом к Барундукову: заблаговременно перебраться с выжидательных позиций на исходные.
Однако немецкая маршевая рота в эту ночь не собиралась уходить из Борок. Ей действительно сократили время отдыха: с пяти суток — на четверо… Но командир роты хауптман Зилле, получив под вечер этот приказ по радио, счел за благо не оглашать его покамест, а прежде всего, с воспитательной целью, загодя приучать подчиненных к неожиданностям, которые могут обрушиться на их головы во фронтовых условиях, объявить об экстренном выступлении на восток завтра в пять вечера. На сборы предоставить только десять минут и наложить строгие взыскания на неуспевших снарядиться по всем правилам…
А пока в бездействующей сельской лавочке стыли на полках и на прилавках ободранные туши двух коров и семерых овец — последнее, что смогли награбить в Борках для сытного обеда солдаты вермахта. Хранитель ротного продовольствия служил одновременно и караульным.
На маленькой площади перед лавочкой чернела виселица в виде неровной буквы П. Ее несимметричность и даже уродливость объяснялись поспешностью сооружения. Один опорный столбик, в пол-аршина обхватом и глубоко врытый, ранее служил для коновязи приезжавших сюда подвод; а вторая опора была составной из двух толстых жердей, туго прикрученных одна к другой прочнейшей проволокой; для верхней же перекладины была использована отбитая от потолка лавочной кладовой балка с массивным, уже давно заржавевшим железным крючком.
После ранних морозцев снова потеплело в эту ночь. И чуть ли не поминутно менялся ветер. Восемнадцатилетнего постового Хорста Кюна, с раннего детства страдавшего тонзиллитом и поэтому лишь месяц назад мобилизованного, терзало поскрипыванье виселицы. Кюн по праву гордился своей музыкальностью. Поскрипыванье виселицы резало и оскорбляло его великолепный слух. Однако мало-помалу в этом стоне безжалостно перегруженных жердей Кюну стали слышаться человеческие стоны. Все неотвязнее, все томительнее появлялись нелепые мысли, что в едва заметно покачивающемся казненном еще теплится остаток жизни, что старик продолжает страдать и молит прекратить его муки.