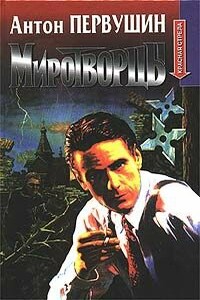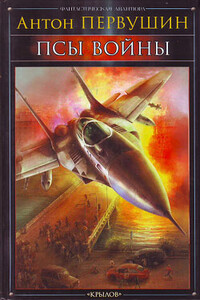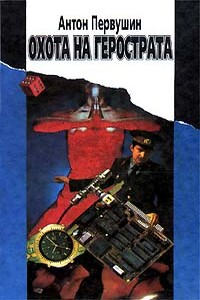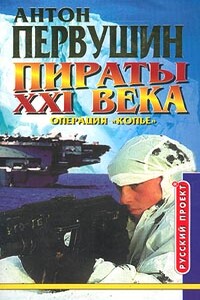Люди мира. Русское научное зарубежье | страница 34
Безусловно, они во всех отношениях были людьми своего века. «Время — кожа, а не платье. Глубока его печать»[2]. Надо сказать, что образ жизни, который они вели, в общем-то только и был возможен в XIX веке (точнее, между 1815 и 1914 годами). В разделенном строго охраняемыми границами, накрытом паспортными режимами мире XX века такая форма жизни, как Ковалевские, существовать не могла бы. Не говоря уж о «железном занавесе» — рядом с этим жутким понятием само упоминание фамилии Ковалевских кажется нелепостью.
И конечно же, основой всего мировоззрения Александра и Владимира Ковалевских было представление об эволюции. Это вообще характерно для мыслителей второй половины XIX века, когда эволюционной стала вся картина мира. Например, в социальных науках эволюционную идею, по совпадению, разрабатывал еще один представитель огромного дворянского рода Ковалевских — младший современник Александра и Владимира, упоминавшийся выше Максим Максимович Ковалевский (1851–1916), известный юрист, историк и социолог (кстати, тоже проведший значительную часть жизни в Западной Европе). Он не впадал в крайности, связанные с уподоблением общества живому организму, но тем не менее считал эволюцию общества вполне реальным предметом исследований, а заодно и процессом, в котором все мы волей-неволей принимаем участие. С точки зрения Максима Ковалевского, эволюционный прогресс общества при прочих равных достигается тем надежнее, чем медленнее те изменения, которые к нему приводят. Эволюция предпочтительнее революции. Все это заметно перекликается с теорией эволюционных стратегий, которую начал разрабатывать Владимир Ковалевский, и, возможно, таит в себе объективно существующие схожие закономерности.
Максим Ковалевский тоже стремился поставить свои знания на службу обществу; он был одним из лидеров партии прогрессистов, располагавшейся в политическом спектре «левее октябристов, но правее кадетов». Умер он в 1916 году, за 11 месяцев до Февральской революции, последствия которой были бы катастрофическими для его идеалов. Одним из его учеников был знаменитый Питирим Сорокин.
Верный ученик
Александр и Владимир Ковалевские не оставили после себя научных школ. У Владимира, этого трагического гения, который сгорел, как сверхновая, никаких учеников вообще не было. Но и Александр, много лет состоявший ординарным профессором, не был склонен ни к активному учительству, ни к коллективной работе. Лишь в конце жизни у него появился ученик в полном смысле, взявший от учителя все что можно и сам впоследствии ставший крупным ученым. Звали его Константин Давыдов. О нем сейчас и стоит поговорить — тем более что уж он-то точно был ярким представителем русской научной диаспоры.