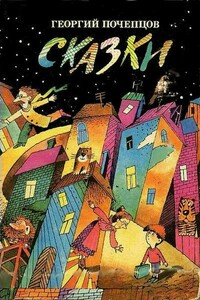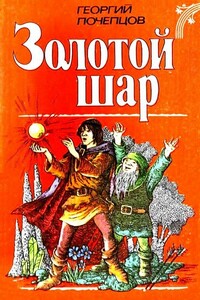Виртуальные войны. Фейки | страница 13
И даже с негативом, который они принесли и продолжают нести, ибо, как пишет один из авторов «New York Times», нам некуда больше пойти[55]. Соцмедиа едины в своем позитиве и в своем негативе. И даже последние электронные вмешательства в выборы в США и Европе не стали последней каплей.
Нам песня, то есть виртуальность, и строить, и жить помогает, поскольку с ее помощью интерпретируется и реинтерпретируется действительность. Человек всегда нуждается и нуждался в переходе от хаоса к порядку. Даже соответствие порядка действительности стоит на втором месте, первым является упорядоченная картина мира вокруг нас. Именно в целях упорядочивания всегда возникают «враги», которые мешают идти вперед семимильными шагами.
Виртуальность помогает нам жить не в физическом мире с его недостатками и проблемами, а в мире идеальном, где все хорошо, а если и не хорошо, то только временно, и завтра все будет по-другому.
Виртуальные миры разных стран могут объединяться в цивилизации. С одной стороны, это усиливает нашу виртуальность, поскольку мы становимся сплоченными, у нас увеличивается число защитников нашей виртуальности. С другой — усиливается и такая же параллельная, но другая цивилизация, поэтому конфликты с ней могут становиться более опасными. Но без виртуальности никак нельзя, нам без нее не прожить. Как вообще считает Ю. Харари, оперирование виртуальностями является единственным, что отличает человека от животных.
3. Особенности виртуальных интервенций
Воздействие на разум несут смыслы, поскольку они существуют не сами по себе, а за ними стоят целые виртуальные системы. Усвоение одного из смыслов на следующем шаге вводит в действие всю систему, связанную с ним. Но виртуальность сама по себе прийти не может, она является контентом, который может принести либо объекты физического пространства, либо информационного. Например, человека поразил храм, что в результате привело его к религии. Здесь смыслы были вложены в особую физическую структуру. А если представить себе не сегодняшнего человека, а человека средневековья, то понятно, что собор даже как чисто физический объект должен был произвести на него ошеломляющее впечатление своими размерами, своим величием.
Однако более четким и более выгодным является передача смыслов через информационное пространство, которое, собственно говоря, и было создано для такой передачи. Ведь не зря письменностью в далеком прошлом владели только жрецы. Отдельный человек никогда не мог быть сильнее зафиксированного в больших объемах коллективного знания, поскольку мог обладать только его малой частью. А коллективное знание уже может контролироваться, когда часть его будет уводиться из поля внимания, а часть, наоборот, максимально акцентироваться. Так всегда происходит в религии и идеологии в их взаимоотношениях с массовым сознанием.