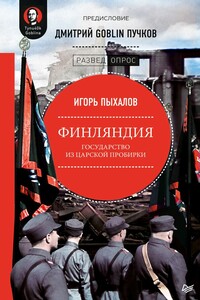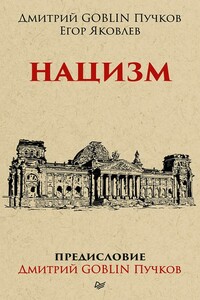Друг государства. Гении и бездарности, изменившие ход истории | страница 87
Японцы с огромным интересом расспрашивали о России и первым из русских знаменитостей полюбили Михаила Илларионовича Кутузова, который, по их мнению, «все сделал прямо по-японски, ибо их правило войны предписывает заманивать неприятеля как можно далее внутрь земли, собирая между тем со всех сторон людей, и потом окружить их». Перед расставанием Головнину и его спутникам поднесли такое послание: «Все вы долго находились здесь, но теперь <…> сами возвращаетесь в свое отечество; время вашего отбытия уже прошло, но по долговременному нашему здесь пребыванию мы к вам привыкли и расставаться нам с вами жалко. <…> о собственной вашей радости при сем не упоминайте, мы сами оную чувствуем и с нашей стороны сему счастливому событию радуемся. Берегите себя в пути, о чем и мы молим бога. Теперь, желая с вами проститься, написали мы сие».
Удивительно, но пленение русского капитана принесло в русско-японские связи куда больше теплоты, чем обе предыдущие дипломатические миссии. Отношения между нашими государствами формально были установлены Путятиным в середине XIX века, но дружба России и Японии началась раньше. В ее честь в 1996 году в японском городе Госики установили памятник Такадаю и Головнину. Не забудем об этих людях. Они тоже были дипломатами.
Плевак мы хотели. Федор Плевако
(1842–1909)
Адвокатов было много, он — один. Для его коллег-современников обыватели и простонародье придумали вереницу уничижительных прозвищ: «нанятая совесть», «куцая команда», «двукаты» и «брехунцы». Достоевский изливал на них желчь со страниц «Дневника писателя», Салтыков-Щедрин злословил адвокатуру «помойной ямой». Но усомниться в его порядочности было немыслимо. Во второй половине XIX века любой москвич уверил бы вас, что в Белокаменной есть три достопримечательности: Царь-колокол, Царь-пушка и он — Федор Никифорович Плевако, присяжный поверенный.
Корифей адвокатской профессии появился на свет 13 апреля 1842 года в захолустном городке Троицке под Оренбургом. Каким ветром в эту глушь занесло его отца — бедного, но все-таки дворянина из Малороссии, — известно одному богу: советские исследования туманно намекали на ссылку за участие в революционном подполье, но эта версия шита белыми нитками.
Фединого родителя, служившего на таможне, звали не Никифором, как можно предположить, а Василием, и фамилия его была Плевак — букву «о» на конце прибавил его знаменитый сын для благозвучности. Как-то, посещая провинциальных помещиков, он приметил в их доме служанку Катю — то ли киргизку, то ли калмычку, то ли башкирку — и за десять руб лей приобрел ее у хозяев в вечную собственность. Формально оставаясь бобылем, Василий прижил от женщины четверых детей — из них выжило двое. Рожденный вне брака будущий судебный защитник получил отчество не от родного отца, а от крестного старшего брата — Никифора.