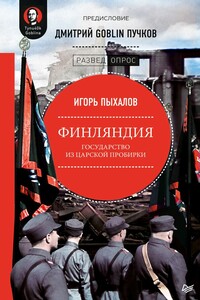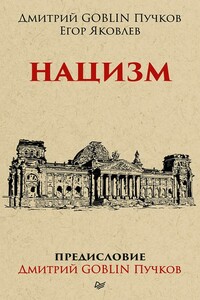Друг государства. Гении и бездарности, изменившие ход истории | страница 45
Свое «признательное» эссе Гари закончил словами: «Я славно повеселился. До свидания и спасибо». Но опубликовано оно было уже после его смерти. 2 декабря 1980 года выдающийся писатель застрелился, оставшись единственным в истории дважды лауреатом Гонкуровской премии. Второй раз — как Эмиль Ажар, а первый раз — под собственным именем, еще в 1956 году.
Игры патриотов
Мистификации, о которых было сказано выше, пытались подменить наши представления об одном-единственном человеке — их авторе. Теперь же мы поговорим о подделках, которые претендовали на то, чтобы совершить подмену читательских представлений об истории и культуре целых народов. И пальму первенства в этом ряду бесспорно следует отдать «Краледворской рукописи» и ее литературным «сестрам».
В 1817 году молодой чешский поэт и переводчик Вацлав Ганка объявил о находке древней рукописи, датированной 1290–1310 годами. Находка эта, состоявшая из шестнадцати пергаментных листов, содержала старинные нерифмованные стихи о подвигах чешского народа в борьбе с поляками, саксами, монголами и прочими врагами-захватчиками, а также несколько лирических произведений. Нашлось все это богатство, по рассказам Ганки, совершенно случайно. Приехав погостить к закадычному другу, служившему судьей в провинциальном городке Двур-Кралов-на-Лабе, литератор прослышал, что в подвале местного костела хранится куча предметов пятисотлетней давности, которые давно перестали кого бы то ни было интересовать. Заинтригованный гость в тот же день полез в подземелье и за шкафом среди разного хлама отыскал сокровище национального значения.
Вацлав Ганка
Провинциальный город, церковь, уникальный литературный памятник — в этом было что-то весьма знакомое. При похожих обстоятельствах граф Алексей Мусин-Пушкин за двадцать лет до этого стал обладателем «Хронографа», в котором оказалось «Слово о полку Игореве» — русский любитель древностей, по его словам, приобрел раритет у нуждающегося старца Иоиля Быковского, последнего архимандрита Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле. Знал ли об этом «открыватель» краледворской ценности? Безусловно. Его наставник профессор Йозеф Добровский очень интересовался «Словом», а сам пан Вацлав вскоре сделал его чешский перевод. И предположение, что Ганка в этой истории копировал Мусина-Пушкина, не кажется таким уж надуманным.
Находка филолога стала событием, выходящим далеко за рамки литературы. До той поры у чехов в принципе не было ни одного собственного древнего литературного памятника. Нетрудно представить, какой толчок развитию национального самосознания дало это открытие. Ведь в начале XIX века Чехия входила в состав Австрийской империи, государственным языком был немецкий, а чешский тихо забывался…