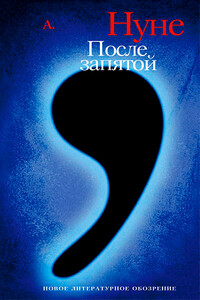Русская Венера | страница 30
— Ну, Роман Прокопьич, подставляй бока.
Он забрался на полок, улегся — опалило каким-то остро посвистывающим ветерком. Анисья Васильевна, меняя веники, обмахивала, овевала его, чтобы глубже и полнее раскрылась кожа для жгучего, гибкого охлеста листьев и ветвей. Потом скользом, скользом, потом впотяг, потом мелко, часто припаривая, прихлестывая от лопаток до пят, от носков до груди. Роман Прокопьевич, медлительно переворачиваясь, только уркал, как сытый голубь.
Слез, малиново светящийся, с шумящей головой от смолисто-березового хмеля, нетвердо прошел к кадке — и с маху на себя один ушат, другой, третий — ледяной, колодезной, — занемел на миг, застыл и вновь наполнился жаром, но уже ровным, необессиливающим.
Анисья Васильевна поддавалась венику как-то раскидистее, вольнее, смуглое тело ее вскоре охватило темно-вишневым пылом, лишь ярко, розово-густо проступали из него соски. Слабым, рвущимся голосом попросила окатить ее тут же на полке:
— Силушек моих никаких…
Пар потихоньку схлынул, из-под пола потянуло холодком, чисто зажелтело, залучилось стекло лампочки. Отпустила и вяжущая, сонно-горячая слабость — тело наполнилось до последней жилочки томительной, благодатной чистотой. Анисья Васильевна, сидевшая на широкой лавке, вся потянулась, выгнулась:
— Ох ты, сладко-то как! — чуть откинулась, чуть улыбнулась, прикрыла глаза.
Роман Прокопьевич вдруг застеснялся, отвернулся к черному, слезящемуся оконцу.
— Роман! — засмеялась. — Не туда смотришь, — придвинулась, задела, опять засмеялась.
— Да неудобно, Аниса. — В поту сидел, а все равно почувствовал, что еще потеет. — Окошко это тут…
Рывком встала, даже вскочила, схватила ковш с кадки, замахнулась:
— У! Так бы и съездила! Пень еловый. — Бросила ковш, вскинула руки, собирая волосы. — Все, Роман! Все! — Будто только что раскалились крепкие слегка расставленные ноги, чуть, оплывший, но все еще сильный живот, матерые, набравшие полную тяжесть груди — раскалились от злости, обиды, от нетерпения сорвать эту злость и обиду.
— Что все-то? — Он исподлобья взглядывал не нее.
— Больше ни кровиночкой не шевельнусь. Вот попомнишь!
После, за самоваром, причесанная, в цветастой шали на плечах, румяно-свежая, исходившая, казалось, благодушием, она неторопливо говорила:
— Черт с тобой, Роман Прокопьич. Тебя не пробьешь. Хотела, чтоб душа в душу. А ты как нанялся в мужья-то. Ладно. Раз так, то так. Вроде и семья, а вроде и служба. Вот и буду как службу тянуть.