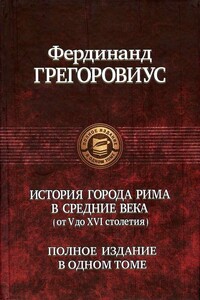История города Афин в Средние века | страница 43
Если Констанций II впоследствии мог похитить в Риме останки древних бронзовых произведений искусства и даже кровельные листы с Пантеона, то можно допустить, что и в Афинах награблены были подобные же сокровища, тем более что здесь таковых оказывалось несравненно более, чем в западной столице, которую непрестанно опустошали и сами римляне, и варвары. Древние афиняне в изобилии разукрасили свой город бронзовыми статуями, которые принадлежали к драгоценнейшим произведениям искусства, но хищность византийцев, вражда христианских священников и нужды самих граждан должны были в течение двух веков, предшествовавших Констанцию, сильно поуменьшить эти сокровища. Можно поэтому даже усомниться, нашли ли императорские агенты достопримечательности, сколько-нибудь достойные хищения? Подобно тому, как колоссальная статуя Паллады исчезла из крепости, так же точно погибли там и многие иные бронзовые фигуры; равным образом едва ли сохранились в целости на монументах художественные треножники, что стояли в улице Треножников; едва ли также сохранились бронзовый Зевс в ограде Олимпиума, статуи Гармодия и Аристогитона, Гермеса, Солона, Пиндара, Птолемея, трагиков и многие иные бронзовые произведения искусства в нижнем городе.
В 662 году, т. е. спустя более столетия после Юстиниана, в Афинах едва ли были открытые приверженцы язычества. Тем не менее можно допустить там запоздалое существование тайных последователей новоплатоновской мистики, которые изучали еще свитки Прокла, вопрошая древних олимпийских богов. Прокл — последний примечательный философ Платоновой академии, который сблизил с христианской религией язычество путем аллегорического истолкования мифов и аскетического учения о добродетели, не подвергся забвению и не переставал плодить опасности для правоверной церкви. Большая часть ересей, с какими боролась Церковь, проистекали из двух источников, никогда не иссякавших, — из неоплатонизма и из манихейства. Было бы чрезвычайно любопытно изучить за века невежества сокровенное возрождение среди афинян язычества в неоплатоническом учении, но это составило бы одну из наитруднейших задач и едва ли даже вообще разрешимую для исследователя религии и философии.
Византийская церковь хотя и в эпоху Юстиниана вышла полной победительницей из горячей борьбы с эллинством, тем не менее не могла искоренить повсюду тысячелетних корней веры в языческих богов и ополчилась с решительной враждебностью против древнегреческих поэтов и мыслителей. Церковь во всей империи обозначала язычников национальным понятием «эллинов», а философов-язычников в частности именовали «афинянами». На эту враждебность несколько указывает знаменитое песнопение в честь Пресвятой Девы Марии, известное под названием «акафиста Богородице». Сочинил его патриарх Сергий после того, как в царствование Ираклия страшная волна аваров и персов была победоносно отбита летом 626 года от стен Константинополя. В этом греческом Ave Maria патриарх взывает к Царице Небесной, между прочим, с следующими стихами: