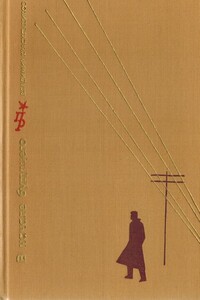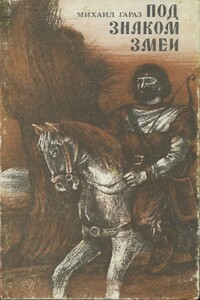Крик вещей птицы | страница 60
— Позвольте, ваше высокоблагородие, поднести вам сей презент, — сказал он.
— Ах вот как! — воскликнул Радищев, и они поверили его удивлению, потому что обрадовался-то он искренне, неподдельно. — Ну спасибо, друзья, спасибо. Ублажили, утешили. Благодарю, сердечно благодарю. — Он принял стопу и понес ее в кабинет. Петр бросился вперед и открыл ему дверь, а Богомолову, который, ликуя, шагнул было туда же, преградил путь рукою. Сейчас он, бдительный камердинер, чтобы не помешать барину, не пустил бы к нему даже Елизавету Васильевну.
Радищев положил стопу на письменный стол, сорвал с рук перчатки, скинул сюртук и шляпу, взял верхний экземпляр и сел на канапе. Вот она и готова, его многострадальная книга. Ничего, что не одета в переплет. Ну-ка почитаем. Он начал с первых строк, с посвящения Алексею Кутузову, другу, с о ч у в с т в е н н и к у. Книга, десятки раз внимательно просмотренная и в рукописях, и в оттисках, теперь читалась совсем по-новому, и автор, потеряв действенную связь с ней, с грустью почувствовал ее отчужденность, ее независимость. Да полно, он ли, Радищев, пустил на свет это самовольное создание?
«Выезд», «София», «Тосна», «Любани» — очень короткие главы, и он прочел их быстро, без передышки, но перед концом четвертой вдруг остановился. «Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение», — сказал герой, и автор задумался: не слишком ли высоки эти слова? Ладно бы только эти, но ведь дальше, в следующих главах, где откроются более страшные человеческие страдания, слог все чаще будет подниматься до пророческого парения. Раскаленное чувствами перо извергло много парящих церковнославянских выражений, а потом, когда написанное обрабатывалось, очень хотелось их выкинуть, и кое-что удалось изменить, но на большее не хватало времени, к тому же от правки отговаривал Челищев, горячо доказывавший, что такому беспощадному обличению, каким является «Путешествие», соответствует именно высокий, библейский, апокалипсический слог. Ну, сей старый друг — убежденный сторонник ломоносовского (вернее, елагинского) штиля, однако его поддерживали и новые друзья — Мейснер, Царевский и даже Елизавета Васильевна. Может быть, они правы? Так или иначе, а книга не подчинена больше автору, она независима, и с этим приходится смириться… «Чудово». Единственная глава, которой, кажется, недоволен Челищев. Он сам тут выведен в образе приятеля Ч., столкнувшегося с надменным начальником, чудовищно равнодушным к судьбе двадцати человек, кои чуть не погибли по вине этого изверга. История подлинна, только немного переиначена, и Челищеву, очевидно, не понравился его характер, благородный, но чересчур грубый во гневе. А может быть, он боится, что историю ту опознают и ему пришьют преступное сотрудничество с автором?