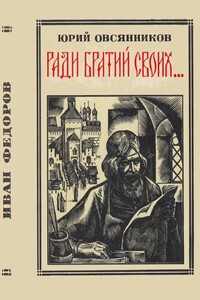Крик вещей птицы | страница 47
Из-под мостового полукруглого пролета высунулся носом и пополз, пополз оттуда длинный и узкий плот неошкуренных сосновых бревен. Мужики в красных линялых рубахах, один за другим выныривая из-под моста, проворно работали шестами и успевали, однако, взглянуть вверх и усмехнуться.
— Эй, барин, чего зря глаза пялишь! — крикнул один из них, задрав белесую, как пеньковая кудель, бороду.
— Кинь, кинь на ведерко! — подхватил другой.
— Хоть на бутылку бы.
— Как же, разевай рот. Барин мадаму ждет угостить.
Радищев увидел себя их глазами и, отвернувшись, быстро пошел прочь, ошпаренный горячим стыдом. Речные мужики. Как ненавистно им праздное барство! Согбенные и безмолвные на земле, они расправляются и смелеют на воде. Удивительно отчаянны и злоязычны все эти плотогоны, пристанские крючники, судовые работники. Да, бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обагренный кровью от оплеух, многое может решить доселе гадательное в истории российской. Верно заметил наш путешественник, размышляющий по дороге в Москву о русской песне. Не бурлак ли снялся первым с гнетущей земли? И не за ним ли хлынут другие невольники? И может быть, они, собравшись в городские толпы, поднимутся на дикое бесправие. Но чтобы они когда-нибудь поднялись, кто-то должен встать уже теперь. Вот в чем дело, любезнейший Антоновский. Встать и тут же лечь под топор. Вы на такое не пойдете. Очень уж удобно расположились в своей душе, братья златорозового креста. Самоусовершенствование? Да оно ведь достигается в испытаниях. Не забывайте Христа, братья. С вами оказался и наш совестливый Кутузов. Хотя и несладко ему там, в Берлине, а все же безопасно. Прости, дорогой Алеша. Прости. Приходится поступать вопреки твоим литературным проповедям. Не можешь ты благословить друга. Никак не можешь. Прискорбно.
Свернув с Невского, он шел по Грязной и с грустью смотрел на свой дом, видневшийся впереди. На века строил он сию семейную крепость. Каменная, толстостенная. Но едва ли спасет она от катастрофы. Марата в его жилище, где он печатал свои беспощадные обличения, спасли верные сторонники. Они выставили две пушки, и отряд, посланный Лафайетом на писателя, отступил от его дома. В Петербурге еще никто не готов к подобной защите. Придется самому отбиваться. Собою-то волен ты распорядиться, а вот вправе ли толкать в пропасть своих детей?.. Нищета, скитания. Потеря дворянских благ. Полная потеря… Ну а скажи, тебя-то эти блага осчастливили? С малых лет ведь мучишься. С того летнего дня, когда увидел, как люди соседа Зубова хлебали во дворе щи из деревянных корыт. Да щи ли? Быть может, какую-нибудь мутную жижу. Ты ведь стоял за воротами, смотрел через железную решетку и не мог разглядеть, что они там хлебали, сбившись кучками вокруг этих долбленых корыт. Один оборвыш, тщедушный, с редкой рыжей бороденкой, слишком зачастил ложкой, и его отшвырнули от стола. Свои же отшвырнули, крепостные. Он упал ничком на пыльную землю, странно раскинув руки. Боже, до чего он был жалок, когда, поднявшись, стоял в сторонке, утирая омоченное слезами лицо, маленькое, коричневое, с розоватыми пятнами каких-то сошедших болячек! Прошло уже больше тридцати лет, сгнил, наверное, крест на могиле того мужичонки, а лицо его, искаженное страшной обидой, и теперь еще часто возникает перед твоими глазами, и с такой отчетливостью, что едва сдерживаешься, чтобы не разреветься, как разревелся ты тогда, кинувшись от зубовских ворот домой. «Как им не стыдно! — кричал ты в руках матери. — Что они делают! Что они делают!» — «Кто — они?» — обнимая, спрашивала тебя мать. Но как ей было ответить? Ты еще не скоро узнал, что они — это все те, к кому принадлежишь и ты сам. Вот твой дом, коллежский советник. Вполне дворянский. Двухэтажный, многооконный. Снаружи совсем благополучный. Нет, даже не входя внутрь, можно почувствовать, какая тревожная тишина царит в его покоях. Или это твое больное воображение?