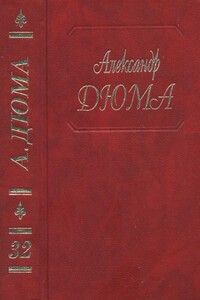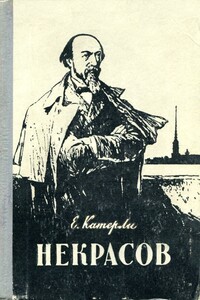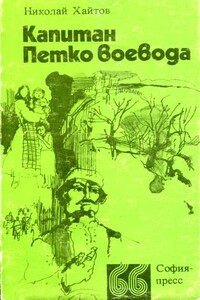Крик вещей птицы | страница 120
— Ни при себе, ни дома.
— Как же так? Дворянин ведь, именьице есть, мужички. Или уже заложили?
Радищев не отвечал.
— Ныне модно закладывать да проматывать имения, — продолжал офицер. — Плохо, весьма плохо, ежели у вас дома ничего нет. С большим капиталом можно и отсюда выкарабкаться, а как нет его, сидеть здесь до морковкина заговенья. Они, судьи-то, хотят ведь есть и пить. Да вы, сударь, сдается, хитрите. Намерены скрыть свое состояние? Может, боитесь конфискации? Может, вы полагаете, что я донесу в Тайную экспедицию? Нет, мил человек, мы живем тут в своем кругу, от всех отдельно, и нам наплевать, что там делают следователи да судьи.
Офицер говорил и говорил, а Радищев уже стоял в одном нижнем белье посреди комнаты, мучимый жгучим стыдом и возмущенный этой издевательской болтовней.
— Вы что краснеете, как барышня? — сказал офицер. — Говорю вам — мы люди свои. Одевайтесь.
Радищев сел на скамейку у стены, наспех оделся и встал. Встал и офицер. Он взял со стола связку ключей и, звеня ими, двинулся к выходу.
— Следуйте за мной.
Радищев ожидал, что его поведут в каземат, но проводник, выйдя из караульного помещения, повернул направо и пошагал по мглистому коридору, в который свет проникал только из комнат через дверные зарешеченные окошечки, видневшиеся по обеим сторонам.
Офицер остановился, отомкнул висячий замок, опустил цепь, запустил ключ в отверстие внутреннего замка, щелкнул два раза и открыл дверь.
— Пожалуйте, сударь.
Радищев вошел в камеру, и дверь захлопнулась за ним. Он не осмотрел даже свое новое жилище, а, увидев у стены покрытую серым суконным одеялом кровать (на ней лежала грязная подушка), подошел к ней и лег навзничь.
Через минуту он почувствовал себя от всего отрешенным, ко всему безразличным, чуждым всяким волнениям и почти блаженно спокойным. Кончилось то напряжение, с которым он жил в последнее время. Ты уже умер, подумал он. Да, чувствами ты мертв, только мысль твоя витает где-то над кишащим злобным миром. Наверное, перед самой смертью, когда тело перестает ощущать боль, а сознание очищается от всех страстей и желаний, человек окидывает взглядом свою жизнь и в этот миг понимает, какой она была ничтожной, как бессмысленны были все его дела и стремления, как независимо от них стихийное людское бытие. Пожалуй, Монтень прав: человеческая природа неизменна, пороки неустранимы. Этот французский Эпикур, поборник личного счастья и спокойствия духа, десять лет старательно служил бордоскому парламенту и тут-то, вероятно, понял, как тщетны его усилия. И удалился в свой замок, и заперся в башне, и стал размышлять, и пришел к мысли, что ничто в сем мире улучшить нельзя, а можно только ухудшить то, что есть, если взяться ломать и перестраивать. Может быть, и в самом деле никакому народу никогда не удастся построить лучшее? Французы не прислушались к голосу Монтеня, заглушенному двумя столетиями. Они ближе приемлют Руссо, Рейналя и Гельвеция. Они ломают. Что у них выйдет? Может быть, построить-то и не смогут. А в России старые уродливые порядки еще так крепки, что всякий, кто попытается что-нибудь в них разрушить, порушит только самого себя. Вот кинулся ты на них, и не с ломом, а с пером, и что же? Тебя бросили в каменный треугольник, в мерзкий зарешеченный дом.