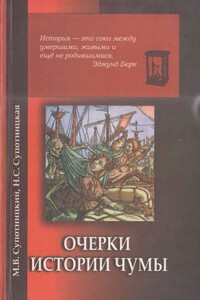Эволюционная патология | страница 76
Не всегда эти эпидемические события поддаются объяснению трудностями гражданской войны и разрухой того времени. Так чума может проникнуть в населенные пункты только после активизации ее природных очагов, на что человек влиять не может. Но активизация таких очагов почему-то происходила в те годы на огромных территориях России и прилегающих к ней стран. Распространение паразитарных тифов в эти годы было отмечено не только в России и в перенесших войну Европейских странах, но и в Латинской Америке. Для холеры того времени отмечали отсутствие связи ее появления с движениями людских потоков. Например, холеры не было в Красноярске, расположенном на перегруженной холерными больными Транссибирской магистрали, а в Средней Азии ею, как правило, болели только местные жители. Необъясненным осталось повсеместное присутствие в те годы холерного вибриона в источниках питьевой воды даже в северных безлюдных районах Сибири. Например, в реке Иртыш в пределах Тобольска, в реке Туре в пределах Тюмени, в реках Ишиме, Карасуни и Мергени в пределах города Ишима Тюменской области (и выше и ниже по реке), и в воде рек и колодцев более умеренных широт.
Напоминание этих фактов должно предостеречь читателя от упрощенного отношения к экологии возбудителей опасных инфекций. Возможно, что при столь значительных различиях между собой по биологическим свойствам (возбудители чумы и холеры — это бактерии; возбудители паразитарных тифов — риккетсии; возбудитель гриппа — РНК-вирус; возбудители малярии — одноклеточные паразиты крови), их экологические ниши на отдельных территориях находятся в зависимости от одних и тех же природных факторов, что и вылилось в чудовищную эпидемическую катастрофу 1918–1922 гг.
Простейшие, обитатели водных и почвенных экосистем, являются как эволюционными предками макрофагов, так и резервуаром возбудителей инфекционных болезней для многоклеточных организмов, и эти два феномена находятся в причинно-следственной связи друг с другом. Роль простейших в поддержании в природе возбудителей опасных инфекционных болезней людей эмпирически зафиксировал Макс Петтенкофер в виде фактора, названного им «фактором Y». К микроорганизмам, способным к сапронозному существованию и одновременно являющимся патогенными для людей, относятся те из них, которые начинают свое размножение в организме в фагоцитирующих клетках, т. е. почти все из известных на сегодняшний день. То, что феномен сапронозного существования пока установлен лишь для отдельных микроорганизмов, опасных для человека, означает новизну данного направления исследований и дает шансы исследователям на обнаружение новых природных закономерностей и явлений. Способность многих недавно выявленных микроорганизмов размножаться только в фагоцитирующих клетках, свидетельствует в пользу того, что именно они, а не искусственные питательные среды современных лабораторий, являются питательной средой, наиболее адекватной их физиологическим потребностям. Нам придется внести очень серьезные изменения в свои представления о физиологии и биохимии микроорганизмов, когда мы начнем их изучать в естественных экосистемах.