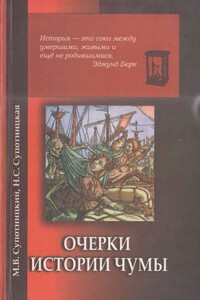Эволюционная патология | страница 72
).
Основываясь на филогенетическом анализе ADP/ATP-транслоказа-кодирующего гена хламидий, G Greub и D. Raoult (2003) показали, что процессы взаимной адаптации амеб, фагоцитирующих клеток многоклеточных организмов и микроорганизмов, начались более миллиарда лет назад, т. е. до появления многоклеточных форм жизни (см. подглаву 2.3). Естественный отбор «подгонял» их друг к другу, отбирал разные формы взаимоприспособления и отбраковывал не приспособившиеся к такому сосуществованию виды.
Исторические свидетельства. Признав за простейшими роль первичного резервуара микроорганизмов, патогенных для человека и животных, нам необходимо признать и то, что должны быть местности, где таких простейших много, и что существуют условия, при которых равновесие между простейшими и их паразитами или эндосимбионтами из числа микроорганизмов, нарушаются. Этот феномен сегодня мы фиксируем по микробиологически подтвержденным эпизоотиям среди животных, по обнаружению инфицированных эктопаразитов и вспышкам инфекционных болезней среди людей. Но если такие очаги существуют постоянно, то сведения об их активизации, т. е. об эпидемических катастрофах, должны периодически фиксироваться в исторических источниках. Ниже, применительно к контексту данной книги, мы приведем только отдельные из них.
Начнем с масштабных эпидемических катастроф. Удивительным образом совпадают местности, охваченные чумой в период ее первой пандемии (VI столетие, «чума Юстиниана») и второй (1346–1351 гг., «черная смерть»). Совпадают даже сроки распространения пандемий — каждая приблизительно «укладывается» в 5 лет. Обе пандемии развились как бубонные (во время второй пандемии у многих больных бубонной чумой развивалась вторично-легочная чума; этот феномен более подробно изложен в нашей книге; Супотницкий М. В., Супотницкая Н. С., 2006). Но известно, что, во-первых, бубоная чума не выходит из своих природных очагов и не заносится ни больными людьми, ни больными грызунами, ни их эктопаразитами; во-вторых, классических очагов чумы, например, в понимании Д. К. Заболотного (1926) или таких, которые описаны в современном учебнике Е. П. Шуваловой (2001), в Европе сегодня нет. Тем не менее существуют исторические свидетельства о чудовищных вспышках чумы в Европе, когда людям казалось, что «наступил конец света».
Сузим горизонт нашего видения до эпидемий чумы средины XVII столетия. Со времен «черной смерти» прошло три столетия. Неконтагиозная болезнь, бубонная чума, вновь «расползается» по Европе в направлении с юга и востока на запад и север и поражает те же города, что и во времена «черной смерти» (Генуя, 1647; Барселона, 1653; Копенгаген и Москва, 1654; Неаполь и Силезия, 1656; Амстердам, 1658; Лондон, 1665). В этих эпидемиях гибнет не менее миллиона человек, но ни в одном из перечисленных городов сегодня нет даже «следов» природных очагов чумы в понимании авторов двух вышеприведенных источников.