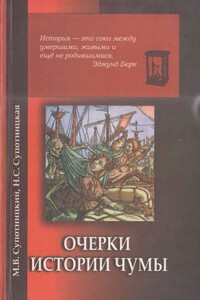Эволюционная патология | страница 53
Направление в эпидемиологии, связывающее развитие эпидемических болезней со свойствами почвы, называлось тогда локализмом. Петтенкофер не был ни голословен, ни одинок в своих взглядах.
Один из последователей Петтенкофера в России, профессор Казанского университета Н. К. Щепотьев (1884), исследуя географию появления вспышек чумы в Астраханской области, пришел к выводу, что для объяснения эпидемического распространения чумы «еще недостаточно одной переносчивости ее». По его наблюдениям, существуют местности, в которые чума не заносится никогда и ни при каких обстоятельствах. Для развития же эпидемии необходимо временное и местное появление еще особого фактора, независимого от чумного агента. Только с появлением этого фактора открывается возможность чумному агенту фиксироваться, развиваться и существовать в данной местности. С исчезновением этого фактора исчезает и чума; а чумный агент, выделенный больными организмами, быстро разрушается. Фактор должен иметь в различное время различную степень интенсивности и экстенсивности. Разность поражения чумой одной и той же местности в различные годы и в различные месяцы одного и того же года обусловливается именно различной степенью напряженности действия этого неизвестного фактора. Его природа определяется «совокупностью наблюдения над движением и развитием эпидемий». Щепотьев считал, что развитие чумного агента зависит от теплоты и влажности почвы. Какой-то еще не распознанный продукт разложения органических веществ почвы, образовавшийся под влиянием определенных физико-химических процессов, и составляет фактор X, столь необходимый для эпидемического развития чумы (Супотницкий М. В., Супотницкая Н. С., 2006).
К числу сторонников Петтенкофера относился знаменитый патолог того времени Р. Вирхов (Virchow; 1821–1902). Но в конечном итоге его взгляды на доминирующую роль неизвестных науке факторов почвы (Y) в развитии эпидемий большая часть ученых проигнорировала. После открытия микроорганизмов — возбудителей инфекционных болезней — «вес» набирало другое направление, контагионистическое (Р. Кох, Г. Гафки и др.), видевшее только в контактной передаче микроорганизмов причину возникновения инфекционных болезней у людей. Бактерии прекрасно «состыковывались» со средневековым учением о контагии. Но теперь стало ясно, что это живой организм (contagium vivum), а не «яд», и что его можно получать в большом количестве и изучать в лабораторных условиях. У ученых появилась новая положительная мотивация — возможность разрабатывать вакцины, сыворотки, диагностические препараты и пр., и никто не обязан был верить теоретическим выкладкам ученого — реликта добактериологической эпохи. Сам Петтенкофер окончил жизнь самоубийством, а его фамилия в бактериологии стала нарицательной и упоминалась в ХХ столетии лишь в связи со случаем, когда он, чтобы доказать непричастность холерных вибрионов к холерным эпидемиям, выпил холерную культуру. В общем, был такой ретроград — Макс Петтенкофер, не верил в очевидное, в то, что холерные пандемии вызываются холерным вибрионом, тем и запомнился.