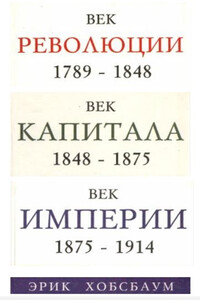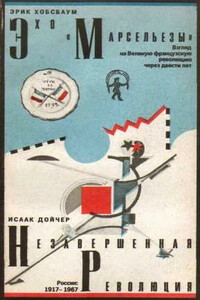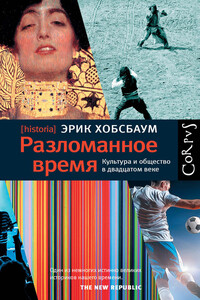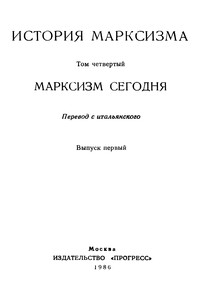Марксизм в эпоху II Интернационала. Выпуск 1. | страница 14
Однако распространение и утверждение марксизма оставалось, так сказать, под контролем Энгельса только отчасти. «Классиков» уже читали с точки зрения их практической применимости; наиболее поддающиеся упрощению исторические части «Капитала» обрели свою жизнь, необыкновенным успехом пользовались изложения и учебники. Не все то, что Энгельс рекомендовал для чтения, было действительно прочитано. Сама его настойчивость, с которой он так часто выступал против упрощенной интерпретации исторического материализма, говорит о том, какой успех имели такого рода «вульгарные» интерпретации. Он сам и многие его современники прекрасно это сознавали. По поводу одной из популяризации теории стоимости Антонио Лабриола заметил следующее:
«Хуже всего то, что результаты этой грубо ошибочной критики сказались именно на мышлении социалистов, в особенности интеллектуальной молодежи, которая в 70 – 80-х годах стала на сторону пролетариата. Многие из пылких обновителей мира того времени (особенно это проявлялось в Германии, следы этого мы находим в материалах партийных дискуссий и брошюрах того времени) стали объявлять себя сторонниками марксистских теорий, принимая за чистую монету марксизм, в той или иной степени изобретенный его противниками. Самое парадоксальное во всем этом недоразумении следующее: склонные к поспешным выводам люди, как это и теперь случается с новичками, путая старое и новое, уверовали, что теория стоимости и прибавочной стоимости в том обычном упрощенном виде, в каком она преподносится в доступных изложениях, содержит hic et nunc [категорическое] практическое руководство, дает основной толчок, более того, морально и юридически оправдывает все требования пролетариата» [25].
За несколько лет до этого автор пользовавшегося успехом учебника по социализму Томас Киркуп отмечал, что «исторические работы Маркса, взятые на вооружение мощной и страстной пропагандой», модифицировались и подправлялись благодаря самим формам их применения [26]. Этот вопрос, к которому мы еще вернемся, мог бы быть проиллюстрирован на множестве примеров.
Таким образом, в последнем двадцатилетии XIX века марксизм начинает сочетаться с практическими потребностями рабочего движения: социалистические партии, партийные публицисты, пропагандисты высасывают и выжимают из «философии практики» все фаталистские, механистические и детерминистические оттенки. Возникает марксистская «триада»: материалистическая концепция истории, теория стоимости, классовая борьба. В те же годы оттенки подобного содержания выделялись из монистической философии, из синтеза работ Геккеля, Дарвина и Спенсера. Впрочем, центр тяжести на эти оттенки переносился несколько ранее.