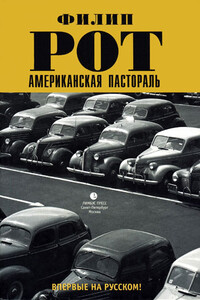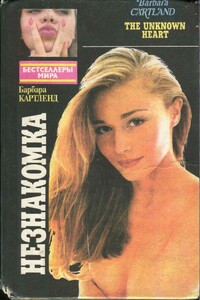Урок анатомии: роман; Пражская оргия: новелла | страница 105
— Каково это, — спросил Бобби, — через три-четыре года после их смерти?
— Мне их не хватает. — Не хватает — это когда ощущаешь отсутствие. А еще когда чего-то не делаешь и упускаешь редкий случай.
— Как они восприняли «Карновского»?
Прежде он рассказал бы — в ту пору Цукерман полночи не давал бы Бобби спать, рассказывая ему все как есть. Но объяснять, что отец никогда не простил ему в «Карновском» насмешек — так он их увидел — и над Цукерманами, и над евреями, описывать волнения, уязвленную гордость, смешанные чувства, неловкость, которые испытывала в обществе его кроткая мать в последние годы жизни, и все из-за образа матери в «Карновском», рассказывать, как его брат утверждал — вот до чего дошел, — будто то, что он сделал, не насмешка, а убийство… Нет, он счел, что недостойно двадцать лет спустя все еще жаловаться соученику на то, что никто в Нью-Джерси так и не научился читать.
По Аутер-драйв с Рики за рулем. Ночной Чикаго, сказал ему перкодан, взгляни на нового Пикассо, на старое метро, посмотри, как убогие бары, которые ты в своем дневнике называл «настоящими», превратились в роскошные бутики… «Сначала номер, где я могу лечь. Шея… Надо достать из чемодана воротник». Но перкодан и слышать об этом не желал: воротник — это твой костыль. Не пойдешь же ты в медицинскую школу в этом воротнике. «А перкодан тогда на что?» Верное замечание, но от костылей надо избавляться по одному. Ты вернулся, но это всего-навсего Чикаго, а не Лурд.
На Аутер-драйв казалось, что вернулся он в Шартр: вдалеке вздымались вверх шпили, он видел чудо и эпоху, подходившую к концу, легенду, соткавшуюся за двадцать лет. Пока он писал (и защищал — глупее ничего не придумать) свои четыре книги, построили Рим, Афины, Ангкор-Ват и Мачу-Пикчу. Да он и электрическое освещение мог впервые увидеть. Разорванные гирлянды иллюминации, свет звездами, квадратами, извивами, взмывающими вверх столпами, а затем призрачная стена — берег озера в этот день и этот век, только и всего. И чтобы разрешить загадку всего этого света, шифрующего тьму, — и четырех книг, тысячи страниц, трехсот тысяч слов, сделавших его таким, каков он сейчас, синтетический опий сновал по его крови и туманил мозг.
Оксикодон. Разрешал все этот ингредиент. Оксикодон был для перкодана тем, чем яичный белок для маминого бисквита. Он узнал об оксикодоне из «Настольного справочника терапевта по лекарственным и биологическим препаратам», 25-е издание, большая синяя книга, полторы тысячи страниц — их можно полистать перед сном, на триста страниц больше, чем в «Анатомии» Грея, всегда лежавшей на тумбочке у кровати. На тридцати страницах — цветные фото тысячи отпускаемых по рецепту лекарств. Он глотал 500 миллиграммов плацидила — рыжую капсулу со снотворным, с легким жгучим послевкусием и запахом, — и, ожидая, сработает или нет, лежал при свете ночника со справочником, изучая побочные эффекты и противопоказания и чувствуя себя (если удавалось) тем мальчиком, что брал в постель альбом с марками — тогда стоило ему поглядеть через лупу на водяные знаки, и он засыпал не на тридцать минут, а на десять часов.