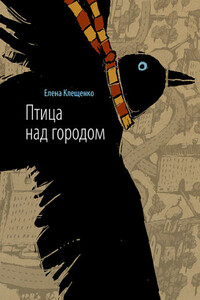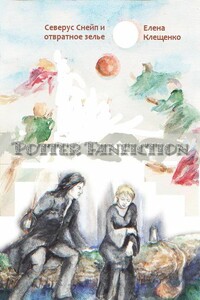Легенды вырастают из травы | страница 4
Норны сильнее других богов, даже тех, которые подарили мужам мечи, а женам прялки. На человека, исправляющего порченую Долю, светлые боги смотрят снисходительно. Чтобы спасти свой род и вождя, Зима должна была сменять девичий убор на кольчугу кметя. Не более и не менее. Именно такова была «воля судеб» — и откажись она, прояви благоразумие, все кончилось бы плохо, мир стал бы немного хуже, чем ему полагается.
Будь в IX веке на берегах Нево побольше грамотных людей, запись о тех событиях могла бы быть, например, такой:
«Над родом, к которому принадлежал злосчастный, срубивший дерево, с тех пор тяготело проклятие: никто из них не смел ходить в лес. И была в том роду девушка, которую иные назвали бы одержимой. Выйдя из детских лет, преисполнилась она безумной уверенности, что судьба ее непохожа на другие судьбы и что мужем ей станет герой. Немного ей было радости от того, ибо всякий раз, как добрый человек был готов назвать ее своей женой, она говорила «нет», думая сказать «да». А было так, что подошел к ее селению славный вождь, и зане проклятие было сильно, оказался нарушенным запрет, данный ему. Гибель его стала бы великой скорбью для окрестных земель, ибо лишились бы они защиты. Но предначертано было, чтобы дева, умершая и родившаяся вновь, ратный труд на себя принявшая, взяла на себя проклятие рода и проклятие вождя, когда сошлись они воедино, — и так все они были избавлены от гибели, и свершилась ее судьба».
Дамский роман. Плоская этнографическая реконструкция. Неужели надо писать непременно высоким штилем и непременно про Западную Европу, чтобы в произведении можно было признать «волшебную сказку»? Лично мне не внушает сомнения жанровая принадлежность «Валькирии»: сражение человека и рока, долгожданный и невозможный счастливый конец… Отсутствие бронированного дракона на реактивной тяге как-то не разочаровывает.
Хочется сказать несколько слов о литературном обаянии Семеновой.
Она ведет свое повествование, поддерживая изящное равновесие между стилизацией и «незаметным» реализмом. Она внимательно следит за словоупотреблением: ее герой (и даже невидимый рассказчик) не обмолвится словом, знать которое не имеет права (например, «сахарный» — за века до появления сего продукта), а с другой стороны, не упустит ассоциации, обычной у его народа и неочевидной для нашего современника. Она блестяще имитирует русские переводы скандинавских стихов и, более того, в отдельных случаях, кажется, это и есть ее переводы — например, в начале «Лебединой Дороги».