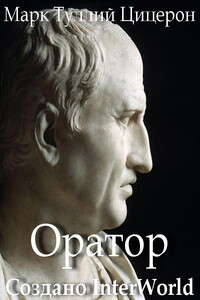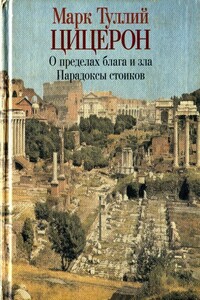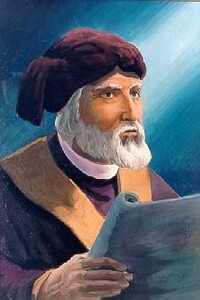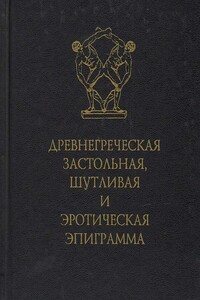Об ораторе | страница 67
(59) — Каково, Катул? — сказал Цезарь, когда Антоний высказался. — Где же те, которые говорят, будто Антоний не знает по–гречески? Скольких историков он назвал! Как умно, как метко сказал он о каждом из них!
—Клянусь честью, удивительно! — сказал Катул. — Но зато уже не удивительно другое, чему я раньше дивился гораздо более: как это Антоний, если он всего этого не знает, может с таким совершенством говорить?
—А между тем, Катул, — сказал Антоний, — я вовсе не домогаюсь тут какой–нибудь пользы для своей речи, а просто привык читать на досуге этих и некоторых других писателей для своего удовольствия. (60) Ну и все–таки, по правде сказать, не без пользы; вот ведь, когда я прохаживаюсь на солнце, то я загораю[231], хотя бы прохаживался и вовсе не для того; так и тут, когда я под Мизеном[232] (в Риме–то редко удается) примусь опять за чтение этих книг, то я чувствую, что от соприкосновения с ними моя речь точно приобретает цвет. Но не подумайте, что это мне слишком доступно: я понимаю у греков только то, что они пожелали написать общепонятным языком. (61) А если я когда попадаю на ваших философов[233], соблазнившись названиями их книг, которые, казалось бы, говорят о вещах известных и очевидных — о доблести, о справедливости, о чести, о наслаждении, — я почти ни слова не понимаю; так они запутаны мелочными и бессвязными рассуждениями. К поэтам я уж и не притрагиваюсь — они и вовсе говорят будто на каком–то другом языке. Мне приятно бывает, как я сказал, только с теми, которые записывали минувшие события или собственные речи, или же с теми, которые говорят так, что явно хотят приноровиться к нам, людям не очень–то образованным. Но к делу!