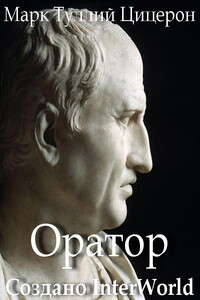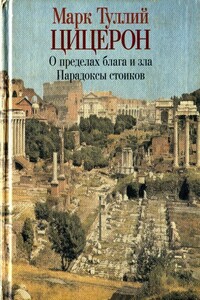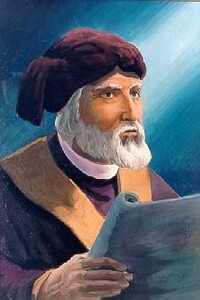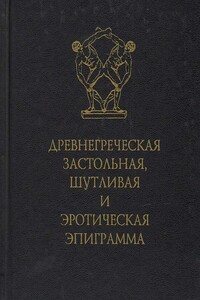Об ораторе | страница 61
(25) И третий твой довод, что таким–де людям, как вы, и жизнь не мила без этих занятий, не только не побуждает меня к рассуждениям, но даже от них отпугивает. Ведь еще Гай Луцилий, человек ученый и очень тонкого ума, говаривал, что не хотел бы иметь своими читателями ни ученейших мужей, ни неучей потому, что последние ничего бы в его стихах не поняли, а первые поняли бы, пожалуй, больше, чем он сам; по поводу этого он даже написал:
| Не по мне[204] читатель Персий… |
(а это, как нам известно, был едва ли не самый ученый у нас человек)
| …Децим Лелий нужен мне! |
(Этого мы тоже признавали человеком почтенным и образованным, но по сравнению с Персием он был ничто.) Так вот и я: если уж рассуждать о наших занятиях, то, конечно, не перед неучами, но еще того меньше перед вами; пусть уж лучше мои слова не понимают, чем оспаривают.
7. (26) — Честное слово, Катул, — сказал тогда Цезарь, — я вижу, что недаром потрудился прийти сюда, ибо самый этот отказ от обсуждения оказался увлекательнейшим обсуждением, по крайней мере для меня. Но зачем мы задерживаем Антония? Теперь ведь его очередь выступать с рассуждениями о красноречии в целом, и этого уже давно ждут Котта и Сульпиций.
(27) — Нет, — сказал Красс, — я и Антонию не позволю сказать ни слова, да и сам онемею, пока вы не исполните одну мою просьбу.
—Какую? — спросил Катул.
—Остаться здесь на весь день.
И тогда, покуда Катул колебался, потому что обещал быть у брата, Юлий заявил:
—Я отвечу за нас обоих: мы остаемся; и я не уйду, даже если ты не произнесешь ни слова.
Тут и Катул засмеялся и сказал:
—Ну так моим колебаниям положен конец, раз и дома меня не ждут, а спутник мой, к которому мы шли, так легко согласился, даже и не спросив меня.
(28) Тогда все повернулись к Антонию, и он начал:
Речь Антония: похвала красноречию (28–40)
— Слушайте! Слушайте![205] Ибо вы будете слушать человека, прошедшего школу, просвещенного учителем, а также знающего греческую литературу. И я буду говорить с тем большей самоуверенностью, что меня пришел слушать Катул, которому привыкли уступать не только мы в нашей латинской речи, но даже и сами греки в изяществе и тонкости своего собственного языка. (29) Но так как все красноречие в целом, будь оно искусством или наукой[206], ничего не стоит без нахальства, то я обучу вас, слушатели мои, тому, чему сам не учился, — своему собственному учению[207] о всякого рода красноречии.
(30) Когда умолк смех, он продолжал[208]