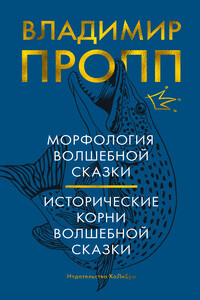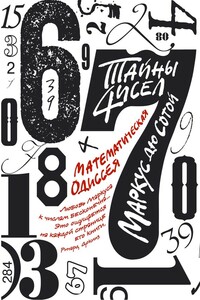Педагогика угнетенных | страница 76
Лишь диалог, требующий критического мышления, также способен генерировать его. Без диалога нет коммуникации, а без коммуникации не может быть настоящего обучения. Обучение, способное разрешить противоречие между учителем и учеником, возможно лишь в ситуации, где они оба направляют свой акт познания на объект, служащий посредником между ними. Таким образом, диалогический характер обучения как проявления свободы начинается не тогда, когда учитель-ученик встречается с учениками-учителями в ситуации преподавания, а когда первый сначала спрашивает себя, о чем он будет вести диалог с последними. А задуматься о содержании диалога, в сущности, значит задуматься о содержании учебной программы.
Для антидиалогического, «банковского» педагога вопрос содержания касается лишь программы, которую он будет излагать своим ученикам, и он отвечает на собственный вопрос, составляя собственную программу. Для диалогического педагога, ставящего проблемы, содержание образовательной программы – это не подарок и не установка – не кусочки информации, которые следует «внести на банковский счет» учеников – а скорее подготовленное для людей, организованное, систематизированное и разработанное «отображение» тех вещей, о которых они хотят знать больше[118].
Настоящее обучение не осуществляется индивидом А ради индивида Б или индивидом А об индивиде Б, а скорее А вместе с Б, причем посредником между ними выступает мир – мир, который впечатляет их обоих и бросает обоим вызов, давая начало взглядам и мнениям о себе. Эти взгляды, пропитанные тревогами, сомнениями, надеждами или отчаянием, подразумевают значимые темы, на основе которых может быть выстроено содержание образовательной программы. Желая создать идеальную модель «хорошего человека», наивно воспринятый гуманизм часто не замечает конкретной, настоящей ситуации, в которой существуют реальные люди. Истинный гуманизм, по словам Пьера Фертера, «заключается в том, чтобы позволить проявиться осознанию нашей истинной человечности, которое является условием и обязанностью, ситуацией и проектом»[119]. Мы попросту не можем обратиться к трудящимся – будь то горожане или сельские жители[120], – отталкиваясь от «банковского» подхода, дать им «знания» или навязать им модель «хорошего человека», представленную в программе, содержание которой мы выбрали самостоятельно. Многие политические и образовательные планы провалились, потому что их авторы составляли их в соответствии со своими личными взглядами на реальность, ни разу не постаравшись учесть (разве что в качестве простых объектов своих собственных действий)