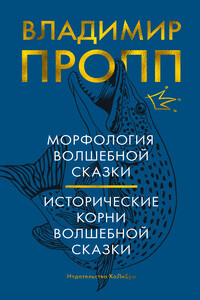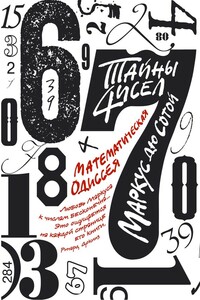Педагогика угнетенных | страница 67
Обучение как акт свободы – в противовес обучению как акту господства – отрицает, что человек – это абстрактное, независимое, изолированное и оторванное от мира существо; подобный подход также отрицает, что мир существует как реальность, отдельная от человека. Подлинное размышление не рассматривает ни абстрактного человека, ни мир без людей, а только людей во взаимосвязи с миром. В этой взаимосвязи сознание и мир синхронизированны: сознание не предшествует миру и не следует за ним.
Сознание и мир даны одновременно: мир, по своей сущности внешний для сознания, по своей сущности также тесно связан с ним[109].
Во время занятий одного из наших культурных кружков в Чили мы с группой, используя кодификацию[110], обсуждали антропологическую концепцию культуры. В разгар дискуссии один крестьянин, который в рамках «банковской» концепции обучения считался бы абсолютно невежественным, произнес: «Теперь я вижу, что без человека нет и мира». Тогда учитель сказал: «Давайте ради дискуссии представим, что все люди на земле в один момент умерли, но сама земля осталась – вместе с деревьями, птицами, животными, реками, морями, звездами… Разве это не было бы миром?» – «О нет, – решительно ответил крестьянин. – Не осталось бы никого, кто бы сказал, что это – мир».
Этот крестьянин хотел выразить идею о том, что тогда в мире не осталось бы сознания, из которого неизбежно вытекает существование мира сознания. «Я» не может существовать без «не-я». В свою очередь, «не-я» зависит от этого существования. Мир, который порождает сознание, становится миром этого сознания. Из этого вытекает процитированное выше высказывание Сартра: «Сознание и мир даны единовременно».
Как только люди, одновременно рассуждая и о себе и о мире, расширяют границы своего восприятия, они начинают направлять свои наблюдения на явления, которые прежде казались непримечательными:
Когда я в собственном смысле слова воспринимаю нечто, замечая его, я обращен к предмету, например к листу бумаги, я схватываю его как здесь и теперь сущее. Схватывать значит выхватывать, все воспринимание наделено неким задним планом опытного постижения. Вокруг листа бумаги лежат книги, карандаши, стоит чернильница и т. д., и все это тоже «воспринимается» мною, все это перцептивно есть здесь, в «поле созерцания», однако пока я обращаюсь в сторону листа бумаги, они лишены любого, хотя бы и вторичного, обращения и схватывания. Они являлись, но не были выхвачены, не были положены для себя. Подобным образом любое восприятие вещи обладает ореолом фоновых созерцаний (или фоновых смотрений, если считать, что в созерцании уже заключается обращенность к предмету), и это тоже «переживание сознания», или же, короче, «сознание», причем сознание всего того, что на деле заключено в том предметном «заднем плане», или «фоне», какой созерцается вместе с созерцаемым в восприятии